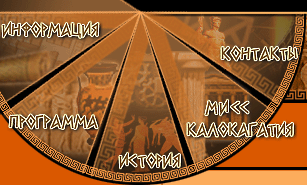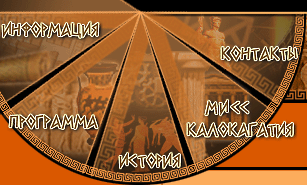А.Ф. Лосев А.Ф. Лосев
ИТОГИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО РАЗВИТИЯ
КАЛОКАГАТИЯ
При той детализации модифидированной проблематики у
Платона, однако, красота есть полное и целостное воплощение
идеального в реальном, постольку в нашем настоящем
резюмирующем изложении нет никакой нужды рассматривать
античную калокагатию отдельно от проблемы модификаций. И
если красота, вообще говоря, трактуется в античности как
тождество идеального и реального, и поскольку калокагатия
тоже есть не что иное, как идеальное воплощение внутреннего
во внешнем, постольку сейчас является вполне целесообразным
рассматривать калокагатию в составе именно эстетических
модификаций в античности.
1. Трудности, связанные с греческим термином
"калокагатия"
а) Прежде всего, удивляет то обстоятельство, что
термин "калокагатия", в общем, чрезвычайно
редок в греческой литературе. Казалось бы, его
должны были применять решительно все и поэты, и философы,
и ораторы. Тем не менее его не употребляет ни один
поэт. Об этом свидетельствует уже беглый просмотр
основных специальных словарей по Гомеру, Эсхилу, Софоклу,
Еврипиду и Пиндару. Термин этот, казалось бы, очень
подходил если не к Софоклу, то, во всяком случае, к
Пиндару. Но и у Пиндара нет никаких его следов. Находим мы
его у философов. Однако и здесь он встречается очень редко,
кроме того, поражает своей противоречивостью и
многочисленными существенными неясностями. Не только такие
авторы, как Ксенофонт, но и такие, как Платон и Аристотель,
понимают его в разных местах по-разному, так что возникает
вопрос: соединялось ли вообще со словом "калокагатия"
какое-нибудь определенное значение?
К числу непонятных странностей надо отнести и такой,
например, факт, что соответствующее прилагательное
употребляется только в мужском роде, хотя оба
прилагательных, входящих в состав этого сложного слова,
имеют и обычное окончание для женского и среднего рода.
Странно с точки зрения законов греческого языка, что два
прилагательных, вошедших в одно общее, относятся здесь к
разным существительным, что получается неизбежно, если одно
из них относить к "телу", а другое к "душе". Странно и
вообще такое объединение двух прилагательных в одно слово.
Jul. Walter в своей книге "Aesthetik des Artertums"
(Leipzig, 1893, S. 126 f.) говорит, что если бы это
соединение действительно соответствовало бы духу греческого
языка, то оно нашло бы для себя распространение в чисто
чувственной области и греки объединяли бы в одном слове
такие прилагательные, как, например, "высокий" и "зеленый"
о деревьях, "серый" и "тягучий" об облаках и т.д.
б) Вместе с тем нельзя сказать, что выражение
"калокагатия" насквозь искусственное и позднее. Самое
раннее упоминание о нем мы находим в материалах,
относящихся к так называемым "семи мудрецам" и к
пифагорейству (эти тексты, между прочим, отсутствуют у
Ю.Вальтера, кажется единственного, кто дает
текстологическое рассуждение о калокагатии (121 147).
Именно Солону Деметрий Фалерейский (10; 3) приписывает
изречение: "Храни калокагатию нрава (tropoy может быть,
"речи") вернее клятвы". Тот же источник приводит изречение
Бианта: "Тому, кто посмотрел (на себя) в зеркало,
необходимо, если он оказался прекрасным, делать прекрасное;
если же он оказался дурным, ему необходимо исправлять
недостаток природы при помощи калокагатии". Наконец,
Ямвлих в своем описании "пифагорейской жизни" приводит,
между прочим, "некое рассуждение их о достоинстве". А
именно, по их мнению, в калокагатии в отношении к мужу,
достигшему истинного достоинства, будет некрасивым и
неуместным поступком развязные речи и прочее из
вышеупомянутого (имеется в виду "гнев, угрозы, дерзость" и
пр. (58 D 5).
Если сообщения Деметрия Фалерейского и Ямвлиха имеют под
собой реальную почву, то их следует считать древнейшими
текстами с понятием калокагатии. Сказать, однако, с
определенностью, что они значат, очень трудно. Конечно, у
нас есть какое-то общее представление и о "семи мудрецах",
и о древнем пифагорействе, так что при желании какой-то
смысл этой калокагатии для данного периода установить
можно. Однако этот путь очень скользкий. Тут всегда может
оказаться какое-нибудь побочное или специальное значение,
которого не предусмотришь при подобных общих дедукциях.
Одно только можно сказать с полной уверенностью: ни один из
этих текстов не выражает никакой антитезы внутренней
добродетели и внешнего вида человека, а все они говорят
просто о добродетели, то есть только о
внутреннем. Как показывает изречение Бианта,
калокагатия, очевидно, может существовать даже при внешнем
безобразии. Можно, впрочем, калокагатию связывать с
исправлением природных физических недостатков, о которых
идет речь у Бианта. Но тогда все изречение потеряет
единство: в одном случае говорилось бы о прекрасных
моральных поступках, а в другом о чем-то вроде гимнастики
или косметики. Но, конечно, раз мы не знаем точного
значения калокагатии для данного времени, то здесь не
исключено и обычное понимание наших современных популярных
руководств.
в) Наконец, существуют непреодолимые трудности и
в переводе термина "калокагатия" на русский и на
прочие языки. Переводить его буквально, как "прекрасное и
хорошее (доброе, благое)" или "прекрасноблагое",
"благопрекрасное" и пр. нелепо и, кроме того, можно
разрушить весь смысл слова (хотя в иных случаях приходится
прибегать и к этому переводу). Русские переводчики
употребляют выражения: "прекрасный во всех отношениях",
"благородный", "человек высшей нравственности", "добрый и
честный", "добрый" и пр. Ни один из этих переводов не дает
никакого представления о греческой калокагатии, и любой из
них очень условен.
Все эти соображения заставляют подвергнуть данное
понятие специальному исследованию, так как то, что было
сделано раньше, явно недостаточно.
2. Домысел о происхождении термина
Начнем с языковой установки.
а) Если термин "калокагатия" употребляется со
времени "семи мудрецов" и древнего пифагорейства, то,
очевидно, нельзя говорить об его искусственности. Какая-то
база под ним должна быть в греческом языке. Ю.Вальтер (127)
полагает, что здесь сыграла известную роль склонность
греческого языка к аллитерациям и ассонансам. В самом
деле, здесь два прилагательных и начинаются (во втором
случае с красисом)
и кончаются одинаковыми звуками (calos cai agathos). Этим
могло издавна заинтересоваться греческое языковое сознание
и воспользоваться для выражения определенной идеи. Подобную
тенденцию можно встретить и в других языках. Если же
отбросить аллитерацию и ассонанс, то объединение в народном
языке двух существительных или прилагательных для выражения
одного понятия, пожалуй, будет встречаться еще чаще. При
этом нет необходимости ни противопоставлять оба имени как
"внутреннее" и "внешнее", ни даже вообще как-нибудь
различать их по значению. Они просто суть одно
понятие, или одна идея. Так, мы говорим: "добрый
малый", или "рубаха-парень", или "душа-человек" вовсе не
потому, что мы данного человека считаем маленьким и плюс к
тому же добрым, или что данный человек "парень", а потом
еще и какая-то "рубаха", или что в нем есть "душа".
Конечно, дать полное раскрытие значения слов "добрый малый"
нелегко, хотя оно вполне понятно всякому русскому человеку
и едва ли нуждается в разъяснении. Таково же и выражение
"рубаха-парень". Аналогичное рассуждение можно было бы
провести и относительно многих иностранных слов (вроде
"джентльмен", "бонвиван", "коммивояжер", "метрдотель" и пр.).
Итак, термин "калокагатия" как будто довольно прочно
связывается с греческим языковым сознанием, по крайней мере
в своей формальной структуре. Но зато возникает вопрос о
конкретном значении этой структуры.
б) Прежде всего, нет абсолютно никаких
оснований относить в этом термине "calos" к
телу, а "agathos" к душе, как это делается во
всех популярных и непопулярных изложениях греческой
культуры. Что такая антитеза чрезвычайно характерна для
греческого сознания, об этом спорить не приходится. Историк
греческой эстетики может с полной уверенностью утверждать,
что грек живет противопоставлением и в то же время
отождествлением внешнего и внутреннего. Нет сомнений в том,
что "calos" грек относит по преимуществу к телу. При слове
"прекрасный" грек чаще всего представляет себе то или иное
физическое тело. И тем не менее утверждать, что в
калокагатии "calos" обязательно относится к телу, а
"agathos" к душе, видимо, нельзя. В приводимых ниже
текстах мы найдем и такое, ставшее в наших современных
руководствах обычным, понимание. Но мы встретимся и с
текстами, которые относят оба прилагательных только к
физической внешности. Мы найдем, наконец, тексты,
относящие, их только к внутренней, моральной жизни
человека. Это может быть объяснено только тем, что
существовали разные типы калокагатии. Что же тут следует
считать основным и что производным?
в) Предвосхищая выводы нашего текстового обзора,
мы должны сказать следующее:
Поскольку значительное количество текстов с
"калокагатией" не содержит ясно выраженной антитезы и
гармонии внутреннего и внешнего, правильнее будет
исходить из однозначности этого термина, не отделяя
в нем "прекрасное" от "хорошего" и не анализируя этих
моментов порознь. Правда, мы тут же убедимся, что есть
много текстов с такой именно двойственной интерпретацией.
Но уже по одному тому, что не все тексты таковы, мы,
очевидно, должны избрать более общее понимание.
О чем говорит то общее и единственное, что зафиксировано
в данном термине? В большинстве текстов понятию
"калокагатия" соответствует значение какого-то
совершенства, полной и ощутимой, понятной самоцели.
Безразлично, что именно в человеке совершенно душа, тело
или их единство, социальное происхождение или общественная
деятельность, но важно именно это совершенство, именно эта самоцель.
Нельзя понимать здесь совершенство как-нибудь узко или
специально. Существуют разные значения калокагатии, которые
необходимо наметить и в многообразии которых следует
рассматривать этот термин. Бросается в глаза прежде всяких
других значений, прежде "душевного" и "телесного" 1)
значение социально-историческое, когда
калокагатийным является попросту тот, кто принадлежит к той
или иной сословной или классовой группировке прошлого или
настоящего. Социально-историческое значение заостряется,
далее, в 2) политическом, когда калокагатия
трактуется как принадлежность к той или иной партии или как
признание определенных политических программ. Далее, в
эпоху культурного кризиса V века мы находим 3)
интеллигентско-софистическое понимание калокагатии,
основанное на утонченных и изнеженных методах мышления и
жизни. Наконец, 4) философское значение этого
понятия выявляет и формулирует то понимание, которое
употреблялось в обиходе бессознательно и в неотчетливом виде.
Последние две категории являются для нас тоже в основе
своей социальными; но их социальный смысл различим не сразу
и требует специального анализа. Этими четырьмя типами,
по-видимому, исчерпывается классическая история
калокагатии. Есть, правда, еще ряд более мелких значений, о
них будет сказано в самом конце.
Попробуем теперь, вникнуть в самые материалы.
г) В социально-исторической калокагатии ясно
различимы несколько совершенно разных подвидов. А именно,
1) старинно-аристократическая калокагатия или вообще
калокагатия, связанная с родовыми, исторически сложившимися
преимуществами. Затем можно говорить об 2)
общественно-показной, или
общественно-демонстративной, калокагатии, связанной
в целом с демократией, но не абсолютно. Это калокагатия
олимпийских и прочих состязаний, калокагатия хорегий и
театральных празднеств, процессий и вообще всей внешней,
демонстративной стороны греческой культуры. Наконец,
греческое рабовладельческое мещанство тоже выработало свою
калокагатию. Неувядаемый образец 3) мещанской
калокагатии мы находим у Ксенофонта (хотя упомянутая выше
противоречивость понятия "калокагатия" особенно выступает,
как увидим, именно у Ксенофонта, который поэтому дает
образцы и совершенно иного толкования этого термина). Можно
предположить, что дальнейшие исследования первоисточников
покажут, что решительно каждое сословие и каждый
общественный класс в Греции обладал своей собственной
калокагатией и что существовал непрерывный переход от одной
социально-исторической калокагатии к другой. Что касается
настоящей главы, то мы остановимся только на трех указанных
типах социально-исторической калокагатии.
3. Старинно-аристократический тип калокагатии
В самой общей форме упоминание о
старинно-аристократической калокагатии мы находим у
Геродота. Геродот говорит об историке Гекатее,
которому, как выводившему свою родословную от богов,
фиванские жрецы показывали свои чисто человеческие
родословные в виде колоссальных деревянных изображений (II
143 Мищенко). "Свои ответные родословные вели жрецы так,
что, по их словам, каждый колосс был "пиромис",
происходивший от "пиромиса". Таким образом, они показали
ему на 345-ти изображениях, что "пиромис" происходит от
"пиромиса", причем не ставили их в связь ни с героем, ни с
божеством. "Пиромис" значит в переводе на эллинский язык
"прекрасный" и "хороший" (calos cagathos Мищенко переводит,
без особой надобности, "честный и мужественный").
а) Если отнестись к этим словам Геродота
формально, то тут мы находим филологическую ошибку: то, что
Геродот пишет по-гречески "pirëmis", означает
по-египетски вовсе не "прекрасный и хороший", а только
"человек". Однако едва ли тут можно подходить так
формально. Если Геродот передал "pirëmis" как "calos
cagathos" и если такой термин действительно существовал у
египетских жрецов, то ясно, что такой "человек" понимался в
особом, специфическом смысле. Тут нельзя было просто
перевести "anthrëpos". "Человек" здесь почтенный
предок, представитель старинного, даже не просто
аристократического, но жреческого рода, благородный,
величавый образ когда-то бывшего сословного великолепия.
Таким образом, греческая калокагатия, о которой говорит
здесь Геродот, содержит в себе значение старинного родового
благородства, аристократического и даже жреческого.
б) Беглые указания на такого типа
старинно-родовую калокагатию мы находим и у Платона.
В начале платоновского "Теэтета" речь идет о старом
аристократе Теэтете, который мужественно сражался, как и
полагается представителю старой родовой калокагатии, сильно
болел от ран и еле живым был привезен из коринфского лагеря
в Афины (142б). В "Протагоре" изображается торжественное
восседание софистов Гиппия и Продика среди их учеников.
Учеником Продика оказывается, между прочим, Агафон, юный
мальчик, который "калокагатиен по природе, а по виду очень
красив" (315d). Тут, между прочим, противополагается
внешняя красота и калокагатия "от природы", то есть
общеродовая, природно образовавшаяся красота. Нечто похожее
читаем мы и в "Хармиде", где рассказывается о другом юном
красавце, Хармиде:
"Да ведь и справедливо... чтобы ты, Хармид, во всем этом
отличался от прочих, потому что я не думаю, чтобы
кто-нибудь из здешних мог легко указать, какие два афинских
дома, сочетавшись друг с другом, имели бы вероятность
красивее и лучше рождать, нежели те, из которых ты родился.
Ведь отеческий-то ваш дом Крития, сына Дропидова, дошел
до нас восхваленный Анакреоном и Солоном и многими другими
поэтами как отличающийся красотой и доблестью (callei te
cai aretei) и прочим так называемым благополучием. И опять,
со стороны матери то же самое, потому что, говорят,
никого не находим на материке красивее и величавее дяди
твоего Пирилампа, каждый раз как он отправляется с
посольством к великому ли царю или к иному кому (из
находящихся на
материке);
весь же этот дом нисколько не уступал другому. А если ты
произошел от таких (предков), то следует тебе быть во
всяком деле первым" (157e 158a Соловьев).
Здесь достаточно определенно рисуется
старинно-аристократическая калокагатия. Калокагатиен тот,
кто принадлежит к старому, знатному, доблестному,
высокопоставленному, величавому и "благополучному" роду.
"Благополучием" В.Соловьев перевел здесь греческое слово
"eydaimonia". Это, действительно, здесь не столько
"блаженство", как мы обычно механически переводим это слово
по нашим словарям, но именно "благополучие" (включая,
конечно, и имущественное и вообще материальное благополучие).
Вероятно, то же приблизительно значение имеет
калокагатия и в следующем рассказе Фукидида о спартанских
пленниках, приведенных Клеоном со Сфактерии (IV 40, 2
Мищенко и Жебелев): "Когда впоследствии кто-то из афинских
союзников, с целью оскорбить, спросил одного из пленников с
острова, доблестны ли (caloi cagathoi) были павшие в бою,
пленник ответил ему: "Тростник (он разумел стрелу. А.Л.)
стоил бы дорого, если бы умел различать доблестных (toys
agathoys)", давая тем самым понять, что камни и стрелы
поражали каждого попадавшего под их удары". Неизвестно,
нужно ли здесь калокагатию понимать как доблесть, но,
поскольку Спарта вообще считалась страной калокагатийных
людей, вернее, тут имеется в виду доблесть, связанная со
спартанскими аристократически-консервативными воззрениями.
в) Ярче всего это понимание калокагатии
представлено у Аристофана. Оно проскальзывает уже во
"Всадниках" (223 и сл.), где Демосфен в союзе с Колбасником
намечает себе помощников:
Есть всадников неустрашимых тысяча,
Они-то уж помогут нам наверное;
Да лучшие (caloi te cagathoi) из граждан нам
союзники,
Да зрители разумные и честные,
Да Аполлон... и т.д.
Еще лучше старинно-аристократическое понимание
калокагатии выражено в "Лягушках" (718 737), где
Аристофан дает волю негодованию против своего торгашеского
и прозаического века и прославляет старые времена. Прежние
граждане это старинная, прекрасно отчеканенная монета, те
настоящие и полноценные деньги, которые имели значение и
для греков и для варваров. Они "благородны", "разумны",
"справедливы" (724 729), художественно воспитаны.
Теперешние же граждане дурные, подлые фальшивая монета.
Первые представители калокагатии.
г) Уже приведенные тексты Геродота, Платона и
Аристотеля свидетельствуют о большом количестве различных
оттенков социально-исторического значения калокагатии. То
это ясно выраженный образ старинного жречества, то прежняя
аристократия с художественным и устойчиво-культурным
чеканом своего духовного облика; то доблестные, красивые,
сильные, благородные по своей душе и развитые по уму
юноши-аристократы и пр. Нетрудно представить себе, какие
еще значения могло принять это слово и какое вообще большое
количество его значений могло быть.
4. Общественно-демонстративный тип
а) Это, может быть, наиболее чистый и
выразительный тип классической калокагатии. Он связан с
внешне-показной, выразительной или, если угодно,
репрезентативной стороной общественной жизни. Сюда,
прежде всего, относится вся великолепная, красочная стихия
греческих игр и состязаний, где эллинский
классический идеал сказался, пожалуй, ярче всего. Человек,
преуспевающий в кулачном бою, в беге колесниц, в метании
диска, в скачках, а также в состязаниях мусических, в
пении, в игре на инструментах, в сочинении и постановке
театральных пьес и т.д. и т.п., такой человек calos cagathos.
б) В греческой литературе мы имеем гениального
певца общественно-демонстративной калокагатии. Это
Пиндар. Правда, у Пиндара самое слово "калокагатия"
не упоминается ни разу. Может быть, изысканный поэт считал
его слишком прозаическим. Но тем не менее предметом всего
огромного числа Пиндаровых од является не что иное, как
именно калокагатия этого типа. Пиндар воспевает победителей
на состязаниях, но похвалы расточаются у него на фоне
высокой и благородной, величавой и торжественной греческой
жизни. Это поэзия великих общенациональных устоев и
порядков. Тут восхваляется слава, богатство, здоровье,
сила, удача, жизненная энергия. В соединении двух начал
общенародного величественного духа порядка и крепости, в
прославлении благородного обладания жизненными и
материальными ценностями содержание творчества Пиндара.
Этой мудрой, зрелой гармонией определяются все стороны
мировоззрения Пиндара его религия, патриотизм и т.д.
Социально-политические мотивы выражены у Пиндара очень
слабо он певец законности и порядка вообще (ср. 01.XIII 6
и сл.). Пиндар глубоко чувствует эфемерность человеческой
жизни (например, Pyth. VIII 135 и сл.), но эта эфемерность
растворяется у него в юности, силе, богатстве, славе, в
дарах богов. Существование личности неотделимо у него от
общенационального, счастливого, активного существования.
Пиндар восхваляет и умеренность, в которой, как говорит
Круазе, нет ничего аскетического, и дерзание (tolma).
Идеалом же и общим примером для такой жизни и морали
служили олимпийские и прочие состязания.
Олимпийские игры и их воспевание у Пиндара являются
наилучшими образцами эллинской классической калокагатии вообще.
в) Самого термина "калокагатия", как мы уже
говорили, у Пиндара нет, но все же приведем ряд подходящих
текстов, характеризующих ее.
Вот, например, конец I Олимпийского эпиникия,
посвященного Гиерону Сиракузскому в честь его победы на
скачках:
"Слава олимпийских игр издалека сияет на ристалищах
Пелопса, где спорят и быстрота ног, и силы могучего тела, а
победитель во все грядущее время наслаждается светлым
вёдром за свои подвиги. Вечное, неизменное, ежедневное
благо есть высшее, чего может достигнуть смертный. Но мне
должно увенчать Гиерона всадническою песнью на эолийский
лад. И я уверен, что мне не придется прославлять славными
строфами гимнов другого гостя, столь же искусного в
прекрасных делах и более могущественного в своей власти
среди всех ныне живущих. Бог, твой покровитель, исполнит
твои надежды, Гиерон, принимая их близко к сердцу, и если
он внезапно тебя не покинет, то я надеюсь прославить еще
более сладкую победу победу на быстрой колеснице и
найти для нее подобающий путь славе, прийти к далеко
видному Кронию. Муза питает мою могучую стрелу силою;
другие велики в другом; вершина счастья удел царей; не
устремляй своих взоров далее. Итак, да будет твоим уделом
все время жизни идти на высоте, а мне да будет дано столь
же долго сливать свою песнь с победоносными мужами и
славиться даром песен повсюду у греков" (93 118, Bergk. В.Майков).
Интересно также содержание первого Пифийского эпиникия в
честь того же Гиерона, наименовавшего себя Этнейским после
основания, нового города Этны и победы на состязании
колесниц. Этот город, говорит Пиндар, "и в грядущем будет
гордиться победоносными конями и прославляться на
празднествах сладкозвучными песнями" (35 39). Поэт молит
Феба-Аполлона о даровании процветания всей этой стране и ее
городу. От богов он ждет "мудрости, силы тела и искусной
речи" (42). Гиерон уже снискал себе честь на войнах,
"великолепный венец богатства" (50), но "пусть будет бог
целителем Гиерону и в грядущем" (55 и сл.). Пиндар просит у
Зевса для людей "истинной мудрости" (68), но просит и о
"славе" (35 38). А Гиерону, среди всех его побед, среди
всех его добродетелей, среди всей его славы, поэт советует
избегать легкомыслия (87), оставаться "верным благородным
побуждениям" (89), не быть скупым (90) и т.д. И ода
кончается словами:
"О друг, не вдавайся в обман обманчивой корысти. Помни,
что слава умерших людей после их смерти живет лишь в
сказаниях летописцев и певцов; никогда не погибнет
приветливая доблесть Креза, тогда как жестокосердного
Фаларида, сжегшего людей в медном быке, повсюду преследует
неумолимая молва; и лиры над домашним очагом не принимают
его в сладкие песни юношества. Пользоваться благосостоянием
есть первый дар для людей; хорошая слава второе благо; но
тот, кто получил и достиг и того и другого, тот принял
величайший венец" (92 100).
Нам кажется, что здесь мы имеем прекрасное живописное
изображение греческой классической калокагатии. Тут перед
нами то характерное смешение и наивное синтезирование
физических благ с идеально возвышенным строем человеческого
духа, которым как раз и характеризуется классическая
Греция. Все здесь чрезвычайно возвышенно, благородно,
величаво и в то же время лишено какого-либо аскетизма.
Такова классическая общественно-демонстративная калокагатия.
Приведем еще отрывок из II Пифийского эпиникия в честь
все того же Гиерона Сиракузского:
"Твой удел благоденствие. Более, чем кого-либо из
людей, на тебя, вождя народа, устремляет благосклонные
взоры великое благополучие. (...) Кто из смертных имеет в
уме сознание истинного пути, тот, должен с покорностью
переносить то, что ему посылают блаженные боги. Разные
ветры веют в разные стороны в высотах. Счастье ненадолго
дается в удел людям, особенно когда оно приходит в
чрезмерном изобилии. Среди малых я буду малым, среди
великих великим. Данную мне судьбу я всегда буду чтить в
сердце, служа ей по мере своих сил. Если же бог дарует мне
роскошное богатство, то я питаю надежду стяжать себе в
грядущем великую славу. О Несторе и ликийском Сарпедоне мы
знаем благодаря человеческой молве и из поющихся о них
песен, которые сложили искусные зодчие: доблесть, благодаря
звучным песням, живет в веках; но немногим дан такой удел"
(84 86, 103 115).
Калокагатия это роскошь тела, души, общества,
взглядов, обычаев. Калокагатийный человек силен, бодр,
весел, красив, здоров. Он борец, герой, атлет, равно как
и поэт, музыкант, художник. Он же и человек меры. Он
покорен тому, чего нельзя, миновать, покорен судьбе, но
надеется на великую славу в грядущем. Изобилие жизненных
благ ему нравится; но он не раболепствует перед ними, а
расстается с ними с улыбкой. Он не отказывается от
богатства. Однако не богатство и слава владеют им, а он
владеет ими, и он над ними всегдашний господин.
Классовое происхождение этого наиболее классического
понимания калокагатии совершенно ясно. Этот идеал был
порожден условиями середины V века до н.э. в сущности,
хронологически очень краткого момента, когда возникла
известного рода социальная гармония аристократических и
демократических элементов в греческом полисе. Это была
кратковременная полоса, когда героизм был неотъемлемым
достоянием граждан, а их естественная и повседневная жизнь
была пронизана высокой идейностью. Однако, несмотря на свою
кратковременность, этот уже больше не повторившийся момент
социального равновесия, навсегда остался в памяти и самих
греков и всех последующих культурных народов.
5. Рабовладельческо-мещанский тип
а) Несомненно, многие, напуганные
противоречивостью, неясностью и затасканностью слова
"мещанство", станут протестовать против его использования
применительно к эпохе античности. По этому поводу, однако,
необходимо сказать, что данный термин применяется здесь
условно, в строго определенном смысле, за пределы которого
и нельзя выходить тем, кто хочет понять выдвигаемое здесь
положение.
Под мещанством мы в данном случае понимаем тип
социальной и духовной жизни (и, значит, культуры),
возникающий на почве такого рационального
предпринимательства, которое исключает всякий другой
социальный и духовный уклад, будучи самоограничено более
или менее узкими рамками с исключением всякого рода
крайностей.
В этом определении для нас важно каждое слово.
"Рациональность" мы понимаем здесь широко начиная от
общей трезвости и расчетливости, которыми отличаются мещане
в своей повседневной жизни, и кончая их более сложным
предпринимательством. Под "предпринимательством" мы
понимаем не само предприятие, а именно
индивидуально-психический и социальный уклад, определяющий
собой возникновение предприятия. Предпринимательство тут
также необходимо понимать широко. В данном определении мы
распространяем его как на мелкие повседневные дела, в
которых ставится та или иная жизненная и житейская цель,
так и на предприятие в узком смысле слова, то есть на то
или иное длительное или организованное усилие, направленное
к извлечению выгоды из производственных и вообще
экономических процессов.
В подтверждение правомерности того понимания термина
"мещанин", которое мы применяем в данной работе, мы могли
бы привести некоторые высказывания русских писателей.
Белинский пишет: "Мещане-собственники люди прозаически
положительные. Их любимое правило: всякий у себя и для
себя".
У Герцена читаем: "В мещанине личность прячется или не
выступает, потому что не она главное: главное товар,
дело, вещь, главное
собственность",
Герцену вообще принадлежит блестящая характеристика
мещанства в сравнении с другими общественно-историческими
типами.
Мы ограничимся приведением еще одного суждения Герцена о
мещанстве: "Его евангелие коротко: наживайся, умножай свой
доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим
денежным и нравственным капиталом, не разоряясь, и ты сыто
и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и
оставишь по себе хорошую
память".
Горький пишет:
"Основные ноты мещанства уродливо развитое чувство
собственности, всегда напряженное желание покоя внутри
себя, темный страх перед всем, что так или иначе может
вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее
объяснить себе все, что колеблет установившееся равновесие
души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей".
Под мещанством понималось раньше также и определенное
сословие без всякого одиозного или унизительного смысла, а
в чисто объективном смысле известной сословной группировки.
Но в литературе и в широкой публике слово "мещанин" большей
частью служит просто для обозначения всякой ограниченности
интересов и узости взглядов людей, их узколобости и
духовной нищеты.
При этом понимании мещанства мы, как нам кажется, имеем
полное право видеть в нем такое рациональное
предпринимательство, которое определяет собой всю духовную,
культурную и вообще социальную жизнь человека, будучи в то
же время ограничено узким кругом интересов, лишено всяких
крайностей, как невыгодных и нерентабельных.
Наконец, необходимо подчеркнуть и то, что мещанином,
согласно нашему определению, является не тот, кто
что-нибудь предпринимает, и не тот, кто предпринимает
что-нибудь рациональное (в этом еще нет ровно никакого
мещанства), но тот, кто всю свою социальную и духовную
жизнь строит по типу предпринимательства.
б) Греческая культура, вообще говоря, культура не
мещанская; и в строгом социально-историческом смысле этого
слова мещанство имело место только в капиталистической
формации, будучи для всякой другой явлением либо
несущественным, либо характерным только для периодов
упадка. Если считать периодом расцвета Греции юный героизм
восходящих рабовладельческих полисов, то черты мещанства
будут в Греции, конечно, явлением уже упадочным, как оно и
наблюдается фактически в эпоху эллинизма. Так, например, к
стилю классической драмы мы относим Эсхила, а также ранний
и средний периоды творчества Аристофана, то есть периоды
высокоидейной, широко общественной и острейшим образом
политической трагедии и комедии. Другое дело Еврипид и
поздний Аристофан, открывающие собой уже чисто бытовую
драму, которую на ступени Менандра будет правильно назвать
мещанской драмой. Ее характерность для античной литературы
является, таким образом, весьма условной и ограниченной. То
же самое, по-видимому, необходимо сказать и о мещанской
калокагатии в античности.
в) В то же самое время ничто не мешало отдельным
ступеням и фактам греческой культуры и отдельным ее
представителям содержать вполне отчетливые черты мещанского
типа. Для нас это интересно в данном случае потому, что в
греческой литературе имеется очень яркая и вполне
законченная концепция чисто мещанской калокагатии.
Этот калокагатийный мещанин не кто иной, как
Ксенофонт, главным образом в своем сочинении под
названием "Экономик". Мы уже говорили выше, что
неустойчивость самого понятия калокагатии приводила к
наличию у одного и того же автора совершенно разных ее
концепций. Это особенно характерно в отношении Ксенофонта,
который, например, в "Пире" и в "Воспоминаниях о Сократе"
понимает калокагатию иначе, чем в "Экономике". Не
исключается возможность и того, что мещанская калокагатия
вовсе не проповедуется самим Ксенофонтом, но только
художественно им изображается, подобно тому как Платон
излагал в своих диалогах не только свои собственные
воззрения, но и воззрения своих противников. Однако для нас
сейчас это не важно. Важно то, что "Экономик" Ксенофонта
дает блестящий образец вполне законченной, продуманной до
последней детали мещанской концепции калокагатии.
Повторяем еще раз, употребляемый нами термин "мещанство"
имеет чисто условный смысл, и он должен здесь пониматься
исключительно только в том значении, которое придается ему
в настоящей работе и которое выясняется только с
привлекаемыми в ней античными материалами.
Рассмотрим произведение Ксенофонта с точки зрения учения
о калокагатии.
г) В "Экономике" Ксенофонта Критобул и Сократ
беседует о домоводстве и об идеальном домохозяине. Начиная
с VI главы Сократ рисует образ такого идеального хозяина в
лице некоего Исхомаха. Этот Исхомах и есть calos cagathos
"прекрасный и хороший человек". На настойчивые вопросы
Критобула об идеальном хозяине и человеке Сократ говорит
следующее (VI 12 17 Соболевский):
"В таком случае, Критобул, отвечает Сократ, не
рассказать ли тебе с самого начала, как я однажды
встретился с человеком, который, казалось мне, поистине был
один из людей, по праву носящих название "прекрасный и
хороший человек"?!
Мне хотелось бы об этом послушать, отвечал Критобул,
тем более что я и сам страшно желаю сделаться достойным
этого названия.
Так вот, я расскажу тебе, сказал Сократ, даже как я
пришел к мысли исследовать этот вопрос. Что касается
хороших плотников, хороших кузнецов, хороших живописцев,
хороших скульпторов и т.п., мне бы понадобилось очень мало
времени, чтобы обойти их и посмотреть их работы, признанные
прекрасными. Но для того чтобы изучить также и людей,
носящих это великое имя "прекрасный и хороший", узнать, что
они делают, почему удостаиваются этого названия, для
этого душа моя жаждала с кем-нибудь из них познакомиться.
Ввиду того, что к слову "хороший" прибавляется слово
"прекрасный", я стал подходить ко всякому красавцу, какого
видел, и старался подметить, не увижу ли, что в нем
"хорошее" привешено к "прекрасному". Но, оказалось, было не
так: напротив, я замечал как будто, что у некоторых
красавцев по виду душа очень скверная. Поэтому я решил
оставить в стороне красивую внешность и пойти на поиски за
кем-нибудь из тех, кого называют "прекрасными" и
"хорошими", я решил попробовать познакомиться с ними".
Из этого отрывка мы видим, что 1) жизнь и личность
Исхомаха с самого начала вполне твердо и сознательно
квалифицируется у Ксенофонта как калокагатия; 2) для
калокагатии совсем не обязательна внешняя красота человека
как таковая. Она может быть и обманчивой. Калокагатия это
нечто гораздо более глубокое и широкое; и мы увидим в
дальнейшем, что наружность Исхомаха играет в этой концепции
калокагатии третьестепенную роль.
Итак, жизнь и личность Исхомаха образец калокагатии.
Эта терминология проводится и дальше.
"Как-то раз я увидел: он сидит в портике
Зевса-Освободителя и как будто ничем не занят; я подошел к
нему, сел рядом и сказал: Что это, Исхомах, ты сидишь
здесь? Ты ведь не очень-то привык сидеть без дела;
обыкновенно я вижу тебя на площади: или ты занят
каким-нибудь делом, или все-таки не совсем свободен.
И теперь ты не увидал бы меня, Сократ, отвечал
Исхомах, но я уговорился с несколькими иностранцами
ожидать их здесь.
А когда ты не занят подобным делом, спросил я,
скажи, ради богов, где ты бываешь и что делаешь? Мне очень
хочется узнать от тебя, что ты делаешь такое, за что тебя
назвали прекрасным и хорошим, ведь не сидишь же ты дома, да
и по наружности твоей не видать этого.
При словах: "что ты делаешь такое, за что тебя назвали
прекрасным и хорошим" Исхомах засмеялся и с радостью, как
мне показалось, сказал: "Называет ли меня так кто-нибудь в
разговоре с тобой, я не знаю; знаю только, что когда мне
предлагают меняться имуществом по делу о снаряжении
военного судна или о постановке хора, то никто не ищет
"прекрасного и хорошего", а зовут меня просто Исхомахом с
отчеством и вызывают на суд. Таким образом, Сократ,
продолжал он, в ответ на твой вопрос скажу, что я вовсе
не бываю дома: ведь с домашними делами жена и одна вполне
может справиться" (VII 1 3).
Прежде чем, однако, обрисовать основные черты
калокагатии этого Исхомаха, бросим беглый взгляд на то
окружение его, которое дано в "Экономике".
д) Характерно уже то, что Ксенофонт находит
нужным не просто хозяйничать, но еще и строить науку о
хозяйстве (I 1). Хозяйство это, с его точки зрения, нечто
универсальное. "Все, что человек имеет, хотя бы оно
находилось даже в одном городе с владельцем, составляет
часть хозяйства" (I 5). Мещанин здесь универсален; он все
на свете стремится вовлечь в орбиту своего
предпринимательства. Вещи ценятся у него только с точки
зрения их полезности. "Ты называешь имуществом каждого вещи
полезные ему" (I 7). В связи с этим выдвигается один из
самых интересных моментов мещанского сознания (I 11 12):
"...для того, кто не умеет пользоваться флейтой, если он
ее продает, она ценность, а если не продает, а владеет ею
не ценность".
"Мы рассуждаем последовательно, Сократ, раз уж признано,
что полезные предметы ценность. И в самом деле, если не
продавать флейту, то она не ценность, потому что она
совершенно бесполезна; а если продавать, то ценность.
На это Сократ заметил: Да, если умеешь продавать. А если
продавать ее в обмен на вещь, которой не умеешь
пользоваться, то и продаваемая флейта не есть ценность, по
твоему рассуждению.
По-видимому, ты хочешь сказать, Сократ, что и деньги
не ценность, если не умеешь пользоваться ими".
Этот последний тезис очень любопытен. Для немещанского
сознания деньги, то есть драгоценный металл, интересны
именно тогда, когда они в виде художественных, религиозных
или иных сокровищ являются предметами самостоятельного
любования или средством для создания больших культурных и
общественных ценностей. У мещанина деньги это только
средство, которым надо уметь пользоваться. На любовницу,
например, тратить деньги невыгодно (I 13); и в таких
случаях лучше уж совсем ими не пользоваться (I 14).
Использовать надо вообще все.
"Значит, дело хорошего хозяина уметь и врагами
пользоваться так, чтобы получать пользу от врагов.
Да, как можно сильнее.
И в самом деле, ты видишь, Критобул, сколько хозяйств
и у частных лиц, и у тиранов обогащаются от войны, сказал
Сократ.
Все это рассуждение ваше, как мне кажется, правильно,
Сократ, отвечал Критобул" (I 15).
Для рационального ведения своих дел и для расчетливого,
трезвого построения жизни мещанству нужна и соответствующая
мораль. Мещанин очень морален, даже высокоморален.
Рациональность требует у него исключения всего
инстинктивного, безотчетного, импульсивного, всего
интуитивного, вдохновенного и беспорядочного.
Неуравновешенность очень вредит душе, телу и предприятию.
Люди "мечтают о счастье, хотят делать то, от чего могли бы
нажить состояние, но им мешают это делать их властители"
(II 18).
"И что они (эти властители) очень скверные, это и для
тебя не тайна, раз ты считаешь пороком ничегонеделанье,
душевную дряблость, неглижорство. Да есть и другие госпожи,
обманщицы, носящие личину радостей: азартные игры, вредные
знакомства; с течением времени и самим жертвам обмана
становится ясным, что это печали, лишь окруженные
корочкой радости, которые подчинили их своей власти и
мешают им заниматься полезным делом" (I 20).
Нужно обязательно всегда делать что-нибудь полезное.
Нельзя предаваться ничегонеделанью. Надо быть трезвым,
дальновидным и осмотрительным. А главное бережливость и
умеренность. Поэтому всякие дорогостоящие удовольствия,
глупость и мотовство, "расходование заработков на страсти"
и пр. все это самые страшные враги мещанства.
"Нет, Критобул, с этими врагами надо вести не менее
решительную борьбу за свободу, чем с теми, которые
стараются поработить нас силою оружия. Но неприятели, если
они люди благородные, поработив какой-нибудь народ,
многих образумят, принудят исправиться и дадут им
возможность остальную жизнь прожить легче; а такие госпожи,
пока властвуют над людьми, никогда не перестанут мучить
тело и душу и разорять их хозяйство" (I 23).
Хозяйство ведь так же важно, как и тело, как и душа.
Умеренный, бережливый, надежный, честный мещанин
необходимо становится солидным человеком. Мещанину
важна и коммерческая солидность, и всякая иная. У него
должна быть хорошая репутация, его должны ценить и уважать.
Мещанин в ответ на это оказывается даже щедрым. Правда,
сорить деньгами без всякой цели это безнравственно. Но
тратить большие деньги на дело, на блага в будущем,
придерживаясь политики, так сказать, дальнего прицела,
это очень хорошо, очень морально, человеколюбиво и даже
красиво.
"...Во-первых, тебе приходится приносить много жертв, и
больших: иначе, пожалуй, ни боги, ни люди не стали бы
терпеть тебя; затем, по своему положению ты должен
принимать много иностранцев, да еще роскошно; затем,
угощать сограждан и оказывать им одолжения, иначе лишишься
их поддержки. Кроме того, как я слышал, и государство уже
теперь налагает на тебя большие повинности: на содержание
лошадей, на поставку коров, на устройство гимнастических
игр, на покровительство метекам; а если уж война случится,
то, наверно, тебя заставят еще столько снаряжать судов и
платить военных налогов, что тебе нелегко будет нести это
бремя. А если афиняне найдут, что ты исполняешь что-нибудь
из этого неудовлетворительно, то, без сомнения, накажут
тебя ничуть не меньше, чем если бы они уличили тебя в краже
их собственных денег" (II 5 7).
Поэтому и к Сократу Критобул подходит как хороший и
добрый хозяин:
"Да, я вижу, Сократ, сказал он, ты знаешь одно
средство к обогащению: ты умеешь жить так, чтоб оставался
излишек. Поэтому я надеюсь, что человек, у которого остался
излишек от немногого, вполне легко может сделать так, чтобы
оставался большой излишек от многого" (II 10).
Итак, хозяйство надо вести, чтобы оно давало
доход. Для мещанина важно именно ведение хозяйства
это самое главное. "Ведение" это является для него
проблемой самостоятельной духовной жизни центральной
проблемой его личности. И Ксенофонт не устает бранить
дурных, нерасчетливых хозяев.
"Одни на большие деньги строят дома никуда не годные, а
другие на деньги гораздо меньшие дома, в которых есть
все, что нужно" (III 1).
"А что если после этого я докажу тебе, что находится в
связи с этим, именно, что они имеют множество домашних
вещей всякого рода и все-таки не могут пользоваться ими,
когда они нужны, и даже не знают, целы ли они у них, а
через это и сами видят много горя, и слугам много горя
доставляют, а у других, у которых вещей нисколько не
больше, но даже меньше, чем у них, тотчас все, что им
нужно, готово к употреблению.
Так какая же причина этого, Сократ, как не та, что у
одних вещи брошены как попало, а у других каждая вещь лежит
на месте?
Да, клянусь Зевсом, заметил Сократ, и даже не на
первом попавшемся месте, а все вещи разложены там, где им
следует быть.
И это, мне кажется, тоже относится и к хозяйству" (III 2
3).
"У одних рабы всегда закованы и в то же время всегда
убегают; а у других ходят на свободе и желают работать и
оставаться" (III 4).
Мещанин организатор. Он умеет организовать рабов и
извлечь из них максимальную пользу. Это же относится и к
земледелию (III 5).
Очень большой порок беззаботность и праздность.
Мещанин прилежен, трудолюбив, терпелив, настойчив, разумен.
Разумность, настойчивость и трудолюбие Ксенофонт
противопоставляет бесцельному и праздному созерцанию
трагедий и комедий. Лучше пойти посмотреть на тех, кто без
всяких средств, а исключительно только своим расчетливым
умом и хозяйственностью достигает больших успехов в
земледелии, чем ходить по театрам.
"А то, я знаю, ты встаешь очень рано, чтобы смотреть
трагедии и комедии, проходишь очень большое расстояние и
изо всех сил стараешься уговорить меня идти на спектакль
вместе с тобой; а на такое зрелище ты никогда меня не
приглашал.
Так я кажусь тебе смешным, Сократ?
А самому себе еще смешнее, клянусь Зевсом, отвечал
Сократ. А что если я покажу тебе, что и содержание
лошадей одних довело до того, что они не имеют куска хлеба,
а другие благодаря содержанию лошадей очень богаты и рады,
что наживают деньги?
Так и я вижу и знаю и тех и этих, но нисколько больше от
этого не попадаю в число получающих прибыль.
Да потому, что ты смотришь на них как на актеров в
трагедии и комедии: на актеров ты смотришь не затем, думаю,
чтобы стать поэтом, а чтобы усладить зрение и слух. Это,
пожалуй, правильно, потому что поэтом стать ты не хочешь;
но если лошадей держать тебя заставляет необходимость, то
не глупо ли с твоей стороны не стараться не быть профаном в
этом деле, тем более что одни и те же знания полезны для
ведения дела и дают прибыль при продаже?" (III 7 9).
Действительно, что может быть бесполезнее праздного
сидения в театре? "Надо уметь объезжать лошадей, уметь
покупать рабов и обучать их с детства земледелию" (III 10).
"Надо приучать жену к ведению хозяйства (III 11 16), а не
сидеть в театре".
Очень хороший человек царь Кир. Уж у него что
земледелие, что военное дело, все это рационально,
обдуманно, планомерно. Он все делает своими руками, даром
что царь.
Нельзя ни на что надеяться; и нельзя никому верить,
кроме своих собственных рук. Царь Кир, бывало, за стол не
сядет, если предварительно не вспотеет от работы. При таком
положении можно и косметикой заняться ну там чтобы одежда
пахла, что ли, духами, но, конечно, в меру, не так, чтобы
духи стоили очень дорого. А уж что за порядок был в садах у
Кира! Порядок планомерность, организованность тоже
непременная страсть всякого мещанина.
"...Когда Лисандр привез этому Киру подарки от
союзников, то Кир, как сам Лисандр, говорят, как-то
рассказывал одному приятелю своему в Мегарах, любезно
принял его и, между прочим, лично показал ему свой сад в
Сардах. Лисандр восхищался садом, что деревья красивы,
посажены все на одинаковом расстоянии, ряды деревьев прямы,
все красиво расположено под прямыми углами, благоухания
разного рода сопровождают их при прогулке. В восторге от
этого, Лисандр сказал: "Конечно, Кир, я восхищаюсь красотой
всего этого; но еще гораздо больше я удивляюсь человеку,
размерившему и распланировавшему тебе все это". При
этих словах Кир обрадовался и сказал: "Так вот, Лисандр,
все это размерил и распланировал я, а некоторые растения и
посадил сам". Тогда Лисандр посмотрел на него и, видя
красоту одежды, которая была на нем, чувствуя запах от нее,
видя ожерелья и браслеты и другие украшения, какие на нем
были, сказал: "Что ты говоришь, Кир? Ты своими руками
посадил что-нибудь из этого?" Кир отвечал: "Ты удивляешься
этому, Лисандр? Клянусь тебе Мифрою, когда я здоров, я
никогда не сажусь за обед, пока не вспотею, занимаясь
каким-нибудь военным упражнением, или земледельческой
работой, или вообще над чем-нибудь усердно трудясь". При
этих словах, как рассказывал Лисандр, он сам подал руку
Киру и сказал: "Мне кажется, ты по праву пользуешься
счастьем, Кир: ты пользуешься им за то, что ты хороший
человек" (IV 20 25).
Мещанин благочестив. Разве можно приличному,
благопристойному, честному, трудолюбивому и вообще столь
высоконравственному человеку не быть благочестивым? Что
такое боги? Да ведь это тоже хозяева, то есть свой же брат.
"Вот это, Сократ, отвечал Критобул, мне кажется, хорошо,
что ты советуешь стараться начинать всякое дело с помощью
богов, так как боги такие же хозяева в делах мира, как и
в делах войны. Так мы и будем стараться поступать" (VI 1).
Да ведь это же, в конце концов, и благоразумно и богов-то
почитать. Мещанство это ведь сплошное благоразумие. Ведь
боги сильнее нас? Сильнее! А помощь в хозяйстве нужна?
Нужна! Так в чем же дело? Разумеется, кроме хозяйства и
рационального устроения жизни просить богов о чем-нибудь
другом едва ли целесообразно. Это ведь получится все равно
что тратить драгоценное время на ротозейство в театре. Ну а
ежели о травке да о лошадках так почему же не попросить и
богов? Оно и прилично, да, чего доброго, и полезно будет.
Мещанин ведь ставит целью жизни не пропускать никаких
удобных случаев.
"...Боги в земледелии такие же хозяева, как и в делах
войны. Во время войны, как ты видишь, думаю, люди перед
военными действиями умилостивляют богов и вопрошают их
посредством жертвоприношений и гаданий по птицам, что
делать и чего не делать; а по поводу сельских работ меньше,
по-твоему, надо умилостивлять богов? Будь уверен,
прибавил он, что люди разумные молят богов и за сочные и
сухие плоды, и за волов, лошадей и овец словом, за все,
что имеют" (V 29 20).
Вот в какой духовной атмосфере живет мещанин со
своей калокагатией. Можно сказать, что и приведенных
рассуждений достаточно для того, чтобы ясно представить
себе существо мещанской калокагатии. Но Ксенофонт хочет еще
больше сгустить краски и рисует образ Исхомаха как
идеального, по его словам, выразителя калокагатии.
е) В чем же состоит эта с таким восторгом
воспеваемая калокагатия Исхомаха?
Семейственность, прежде всего семейственность!
Это еще, конечно, далеко не все, даже, пожалуй, еще и не
начало. Но это такой инструмент, без которого мещанин не
может существовать. Семейственность предполагает брак. Что
же такое брак и каковы его цели? Исхомах подробнейшим
образом рассказывает о том, для чего существует брак и как
он воспитывал свою жену. Исхомах женился вовсе не потому,
что его жена имела какое-то значение сама по себе. Таких,
как она, сколько угодно.
Когда она к нему попривыкла, он обратился к ней с такими
словами:
"Скажи мне, жена, подумала ли ты над тем, с какой целью
я взял тебя и твои родители отдали тебя мне? Ведь не было
недостатка в людях: и с кем-нибудь другим мы могли бы
спать; это и тебе ясно, я уверен. Когда я раздумывал о
себе, а твои родители о тебе, кого нам лучше взять себе в
товарищи для хозяйства и детей, я выбрал тебя, а твои
родители, как видно, меня, насколько это зависело от их
воли. Если когда нам бог пошлет детей, мы тогда подумаем о
них, как их воспитать всего лучше, ведь и это наше общее
благо заручаться, как можно лучшими помощниками и
кормильцами на старость, а теперь все хозяйство с тобой у
нас общее. Все, что у меня есть, я отдаю в наше общее
владение, и ты все, что принесла с собою, обратила в общую
собственность. Не то надо высчитывать, кто из нас внес
больше по количеству, а надо твердо помнить, что кто из нас
оказался более полезным участником в общем деле, тот и
вносит большую сумму. На это, Сократ, жена ответила мне:
"Чем я могла бы тебе помочь? Какое мое умение? Все в твоих
руках, а мое дело, как сказала мать, быть разумной".
Клянусь Зевсом, жена, отвечал я, ведь и мне то же самое
сказал отец. Но, поверь мне, разумные муж и жена должны
поступать так, чтобы и наличное свое имущество сохранять
возможно в лучшем состоянии, и прибавлять как можно больше
нового имущества хорошими, честными средствами" (VII 10 15).
Дело ясно: брак имеет единственную цель это
рациональное ведение хозяйства. Правда, тут путаются
еще дети. Но и дети существуют только для того же самого и
для кормления родителей в старости. Для участия совместно с
мужем в ведении хозяйства жена должна быть, прежде всего,
разумной. Далее, она должна быть воздержанной. Об этом
Исхомах сказал раньше: "Что же касается еды, Сократ, она
была уже превосходно приучена к умеренности, когда пришла
ко мне: а это, мне кажется, самая важная наука как для
мужчины, так и для женщины" (VII 6). Далее, женщина в своей
деятельности должна следовать, конечно, предписаниям богов.
А боги ведь тоже мещане. Они создали женщину для внутренних
хозяйственных дел, как мужчину для внешних (VII 21), и
снабдили того и другого соответствующими хозяйственными
наклонностями (VII 22 30). Женщина должна вести себя
благопристойно, честно, сидеть больше дома, не нарушая
правил приличия, работать и быть трудолюбивой.
"...Подобного рода работы, над которыми трудится пчелиная
матка, назначены ей богом" (VII 32).
Итак, основной смысл существования жены это
рациональное ведение хозяйства. Исхомах говорит своей жене
в начале брачной жизни:
"Тебе надо будет сидеть дома: у кого же из слуг работа
вне дома, тех посылать, а кому следует работать дома, за
теми смотреть; принимать то, что приносят в дом: что из
этого надо тратить, ты должна распределять, а что надо
оставить про запас, о том должна заботиться и смотреть,
чтобы количество, предназначенное для расхода на год, не
расходовалось в месяц; когда принесут тебе шерсть, ты
должна позаботиться о приготовлении из нее одежды кому
нужно. И чтобы сушеные продукты были хороши для еды, тебе
следует заботиться" (VIII 36).
К сущности мещанина относится и довольство собой,
отсутствие всяких внутренних противоречий, сомнений и
неустойчивости. Жена Исхомаха очень довольна полученным от
мужа предписанием: "Клянусь Зевсом... это... для меня в
высшей степени приятная обязанность" (VIII 37). Мещанину
никогда не в тягость его вечная озабоченность, его
осмотрительность, осторожность, его аккуратность,
исполнительность, точность. Наоборот, в этом его счастье.
Исхомах, подыскавший себе жену-мещанку вроде себя самого, с
большим удовольствием выслушал от нее следующее ответное
признание:
"Она сказала мне, Сократ, что я неправильно сужу о ней,
если думаю, будто налагаю на нее тяжелую обязанность,
внушая ей, что необходимо заботиться о хозяйстве. Тяжелее
было бы, прибавила она, если бы я налагал на нее
обязанность не заботиться о своем добре, чем заботиться о
нем. Так, видно, устроено, закончила она: как о детях
заботиться порядочной женщине легче, чем не заботиться, так
и об имуществе, которое радует уже тем, что оно свое,
заботиться порядочной женщине приятнее, чем не заботиться"
(IX 18 19).
Так же приятно было и Критобулу заниматься расчетливой
экономией, причем приятность этого он измерял весьма характерно:
"Как приятно... получить сообща деньги, рассчитаться без
пререканий, так приятно и, разбирая какой-нибудь вопрос,
рассмотреть его при взаимном согласии" (VI 3).
Исхомах заверяет жену, что ей действительно будет
приятно нанимать слуг, учить их, наказывать и награждать
(VIII 41):
"Но всего приятнее тебе будет, если ты окажешься
деловитее меня, сделаешь меня своим слугою, и тебе нечего
будет бояться, что с годами тебе будет в доме меньше
почета, если, напротив, ты будешь уверена, что, старея, тем
лучшим товарищем для меня и лучшим стражем дома для детей
ты будешь, тем большим и почетом будешь пользоваться в
доме. Ведь ценность человека для практической жизни,
прибавил я, увеличивается не от красоты, а от его
внутренних достоинств" (VI 42 43).
Внутренние же достоинства расчетливость и деловитость.
Очень интересно, как Исхомах отучал свою жену от
косметических средств. Эта женщина вдруг начала белиться и
румяниться и надевать ботинки с высокими подошвами может ли
мещанин это допустить? Быть может, мещанин эпохи разложения
намазывается, красится и вообще употребляет косметические
средства. Но здоровое мещанства, мещанство на подъеме
терпеть этого не может. Мещанин любит все подлинное,
крепкое, натуральное. И вот Исхомах применил испытанное
мещанское средство поучение. Он стал ее спрашивать, в
каком случае она его больше любила бы, в случае его
подлинных качеств или в случае поддельных. Мог ли он ей
нравиться, если бы он ей показывал поддельное серебро,
цепочки с деревом внутри, линючие пурпурные ткани вместо
настоящих? О, конечно, это было бы крахом всего ее
мещанства. И если бы вместо телесного общения с собой он
заставил ее "смотреть на сурик и его касаться", а не его,
Исхомаха, здорового и цветущего тела? (X 2 8).
Нетрудно предвидеть решение всей этой проблемы
Ксенофонтом. Во-первых, жена Исхомаха послушалась уже
первого такого поучения, как оно и должно быть, потому что
мещанская мораль, исключающая иррационализм капризных
инстинктов и интуиций, вся целиком состоит из соображений
рациональной целесообразности; и уже достаточно указать на
нерациональность того или другого поступка, как он уже тем
самым перестает существовать. А во-вторых, от всех зол, и в
том числе от внешней невзрачности вместо косметики, и
всяких вообще нежизненных методов единственной панацеей
служит опять все то же разумное и расчетливое поведение.
Вот что рассказывает Исхомах:
"Ее ответом было то, что с тех пор она никогда ничем
подобным уже не занималась, а старалась показаться в
опрятном виде, одетая к лицу. Мало того, она меня
спрашивала, не могу ли я ей чего посоветовать, чтобы ей
быть на самом деле красивой, а не только казаться. Конечно,
Сократ, я советовал ей не сидеть все на одном месте, как
рабыни, а с божьей помощью попробовать, как следует
хозяйке, подойти к ткацкому станку да поучить служанку,
если что знает лучше других, а если что плохо знает, самой
поучиться, посмотреть и за пекарней, постоять и возле
экономки, когда она отмеривает что-нибудь, обойти дом и
наблюсти, все ли на том месте, где должно быть. Это,
казалось мне, будет зараз и заботой и прогулкой. Хорошее
упражнение, говорил я, тоже мочить, месить, выбивать и
складывать одежду и покрывала. От такой гимнастики, говорил
я, она будет и кушать с большим аппетитом, и здоровье
будет, и цвет лица будет у нее на самом деле лучше" (X 9 11).
Таким образом, хорошее хозяйничанье у мещан делает даже
некрасивых женщин прекрасными.
Благоустройство дома, порядок, размеренность. Вот
второе, что мы находим в калокагатии Исхомаха после
семейственности. Мещанство песнопение порядка, талмуд
благоустройства, страсть к размеренности, сосчитанности.
Посмотрите, что этот калокагатийный мещанин, этот
джентльмен мещанской калокагатии Исхомах сделал со своим
домом.
Вот как он разместил все вещи в своем доме и благовестил
об этом своей жене:
"Конечно, я счел нужным, прежде всего, показать ей
принцип устройства дома. В нем нет лепных украшений,
Сократ, но комнаты выстроены как раз с тем расчетом, чтобы
служить возможно более удобным вместилищем для предметов,
которые в них будут, так что каждая комната сама звала к
себе то, что к ней подходит. Спальня, расположенная в
безопасном месте, приглашала самые дорогие покрывала и
домашние вещи, сухие части здания хлеб, прохладные
вино, светлые работы и вещи, требующие счета. Убранство
жилых комнат, указывал я ей, состоит в том, чтобы они летом
были прохладны, а зимой теплы. Да и весь дом в целом,
указывал я ей, фасадом открыт на юг, так что совершенно
ясно, что зимой он хорошо освещен солнцем, а летом в
тени. Затем я показал ей, что женская половина отделена от
мужской дверью с засовом, чтобы нельзя было выносить из
дома чего не следует и чтобы слуги без нашего ведома не
производили детей: хорошие слуги после рождения детей
становятся преданнее, а дурные, вступив в брачные
отношения, получают больше удобства плутовать. После этого
осмотра, говорил он, мы стали уже разбирать домашние вещи
по группам" (IX 2 10).
Едва ли этот апофеоз порядка, этот благовест мещанского
домоустройства нуждается здесь в комментариях. Оно говорит
само за себя. Все проникнуто здесь целесообразностью,
расчетливостью, осмотрительностью, дальновидностью. Очень
важен учет и отчетность. Невозможно жить без точного учета
всех приходов и расходов, без конъюнктуры, без балансов,
без реестров, без "входящих" и "исходящих", без плана. Мы
уже не будем приводить дальнейших и дотошных наставлений
Исхомаха о выборе лучшей экономии и о методах ее
использования (IX 11 17); о выборе, подготовке и
качествах управляющего (XII XIV), о развитии честности в
слугах (XIV). Это целый кодекс мещанской морали, который
после всего сказанного выше не так уж трудно представить
себе и без специальных цитат.
ж) Укажем еще ряд черт из общей
деятельности самого Исхомаха.
Прежде всего, Исхомах, как и большинство мещан,
религиозен. Религия мещанина такова, что она, в
конце концов, становится для него вполне безвредной.
Религия, в которой нет мистики, нет таинства, нет догматов,
нет всего аппарата грехопадений и искуплений, всевозможных
смертей и воскресений, слез и рыданий, суда, мук и пр., то
есть религия, которая попросту является только моралью,
такая религия, очевидно, не только вполне безвредна для
мещанства, но оно специально выдумывает для себя такую
религию. Мещанские моралистические представления о божестве
очень полезны и выгодны для мещанства, и в этом заключена
разгадка живучести религиозных верований во всяком
мещанстве. Калокагатия Исхомаха тоже не обходится без
религии. Едва ли нужно добавлять, что религия у него
является следствием его же собственного рационализма, его
веры в то, что жизнь направляется умом, пониманием,
знаниями и что эта религия только укрепляет и поддерживает
его мещанское благополучие, солидно обставленное
существование.
"Я пришел к убеждению, говорит он, что боги не дали
возможности людям жить счастливо без понимания своих
обязанностей и старания исполнить их и что разумным и
старательным они одним даруют счастье, а другим нет. Ввиду
этого я первым делом почитаю богов, но стараюсь поступать
так, чтоб они по моим молитвам даровали мне и здоровье, и
телесную силу, и уважение в городе, и любовь в кругу
друзей, и благополучное возвращение с войны с честью, и
умножение богатства честным путем" (XI 8).
Боги, оказывается, только потворствуют мещанству, да,
пожалуй, в этом-то и состоит их сущность, поскольку в
представлении Исхомаха, как мы уже знаем, они не больше как
тоже своего рода хозяева, только очень большие.
Далее, Исхомах занят делами. Ему нужно быть
обязательно богатым, и ради этого не тягостны никакие
расходы и труды.
"Как видно, Исхомах, говорит ему Сократ, ты
интересуешься тем, чтоб быть богатым и, имея большой
капитал, иметь большие хлопоты и заботы о нем.
Конечно, интересуюсь тем, о чем ты спрашиваешь,
отвечал Исхомах, приятна, мне кажется, пышность в
служении богам, приятно и помогать друзьям в случае нужды,
приятно и отечество не оставлять без денег, насколько это
от меня зависит" (XI 9).
Исхомах любит труд. Работать и работать прежде
всего. Человек, по его мнению, "заботясь надлежащим образом
и не предаваясь лени, надо думать, скорее увеличит
состояние" (XI 12). "...Благодаря труду, работе и
упражнению человек скорее достигнет благосостояния" (IX
13). День Исхомаха расписан очень целесообразно, так, чтобы
не пропадала даром ни одна минута. Это даже восхищает его
собеседника: "Такое одновременное сочетание способов для
укрепления здоровья и силы с военными упражнениями и
заботами о богатстве все это, по-моему, восхитительно"
(IX 19).
Исхомах, конечно, сторонник науки. Разве мещанин
может не восхвалять науку? Правда, он ее препарирует для
себя так же, как и религию. Но это уже вопрос о методах и
содержании науки. Однако сама-то наука очень превозносится
мещанством. Конечно, нужна она главным образом для
обогащения и зажиточности. Ну а потом ведь это же и
человеколюбиво. "Техника земледелия" и есть "причина того,
что знающий бывает богат, а незнающий, несмотря на большой
труд, живет в бедности" (XV 3).
"Сейчас, Сократ, ты услышишь, сказал он, как это
занятие человеколюбиво. Если земледелием заниматься очень
приятно, если оно в высшей степени полезно, любезно и богам
и людям, если к тому же очень легко ему научиться, разве
оно не благородное занятие? А благородными мы, как
известно, называем и животных, которые красивы, велики,
полезны и в то же время ласковы к человеку" (XV 4).
Мещанин, таким образом, самое человеколюбивое, самое
гуманное существо. И все это от науки, от просвещения, от
борьбы с невежеством, с отсталостью! Исхомах дает целые
научные теории относительно почвы и ее обработки (XVI),
посева (XVII), уборки хлеба и очистки зерна (XVIII),
садоводства (XIX); он без конца поет дифирамбы земледелию,
всячески осуждая нерадивых и лентяев и всячески восхваляя
"заботливость" (XX). Забота, заботливость, хозяйский глаз
святая святых мещанской души.
Вот, если угодно, хороший эпиграф для всей этой
мещанской калокагатии:
"Царь однажды получил хорошую лошадь, и ему хотелось
поскорей ее откормить; он спросил кого-то, считавшегося
специалистом по части лошадей, что, всего скорее утучняет
лошадь; тот, говорят, ответил: "хозяйский глаз". Так и во
всем, Сократ, закончил он, по-моему, хозяйский глаз самый
лучший работник" (XII 20).
Наука, просвещение под наблюдением хозяйского глаза
вот где мечты, любовь, красота, мораль, религия и
калокагатия мещанства.
На этом можно было бы и закончить характеристику
Исхомаха как идеального представителя ксенофонтовской
калокагатии, если бы не последняя глава "Экономика",
заставляющая по-новому увидеть этот любопытный облик
античного мещанина. Мещанин рациональный предприниматель.
Природа для него только объект его предпринимательства; и
он, будучи ничтожной песчинкой в неизмеримых безднах
мироздания, мнит, что подчинил ее себе и владеет ею. Наука
для него только метод его предпринимательства; и он
уверен, что владеет и ею; перед богами он почтительно
снимает шляпу; но мы уже знаем, что боги мещанства есть
только абсолютизированные принципы самого же мещанства, так
что и тут мещанин, несомненно, овладел тем, что ему надо.
Может ли после этого мещанин не мечтать овладеть людьми?
Может ли он оставить без своего рационального
предпринимательства человека, людскую массу, и может ли она
не быть для него только объектом предпринимательства или
его орудием? И вот наш вежливый, учтивый, благочестивый,
щедрый, человеколюбивый, скромный мещанин вдруг
заговаривает не о чем другом, как об умении обращаться с
людьми и повелевать ими. Да разве могло быть иначе?
Разве можно мещанину надеяться на благосостояние, если он
не знает тайных причин человеческого поведения, если он не
умеет читать в сердцах, если он не умеет разоблачать,
подсматривать, угадывать, расшифровывать людское
настроение, поступки, идеи и чувства? И вот последняя глава
(XXI) Ксенофонтова "Экономика" посвящена этому умению
повелевать. Скромный, умеренный и воздержанный мещанин
вдруг оборачивается тончайшим психологом, умеющим до
полного цинизма разоблачать человеческие души и нащупывать
в них все тот же универсальный
рационально-предпринимательский корень и костяк. Да без
этого и не было бы законченного типа мещанина.
Командир не тот, кто физически сильнее своих солдат,
но тот, кто умеет внушать солдатам долг идти за ним в огонь
и в любую опасность.
"То же бывает и в домашних делах: поставленный во главе
дела человек, в должности ли управляющего или надсмотрщика,
если он умеет внушить работникам охоту к работе, энергию,
усердие, такой человек добьется хорошего результата и
создаст большой перевес прихода над расходами. Если при
появлении барина на работе барина, который может и
жестоко наказать плохого работника, и отлично наградить
усердного, если при этом среди рабочих не произойдет
никакой заметной перемены, такому хозяину я не позавидую.
Напротив, если при виде хозяина рабочие встрепенутся, если
у каждого из них пробудится сила, взаимное соревнование,
честолюбивое желание отличиться во всем, про того я
скажу, что в его душе есть что-то царственное. Вот это и
есть самое важное, по-моему, как во всяком деле, где
что-нибудь исполняется человеческими руками, так равно и в
сельском хозяйстве. Но, клянусь Зевсом, я уже не скажу, что
этому можно научиться, взглянув или раз послушав; нет,
чтобы иметь эту силу, нужно образование, и природное
дарование, и, самое главное, милость богов. Да, это благо,
как мне кажется, совершенно не зависит от воли человека, но
от воли богов, это искусство властвовать над людьми по их
добровольному признанию; несомненно, оно даруется тому, кто
поистине посвящен в таинства добродетели" (XXI 9 12).
Таким образом, тут, в этом умении повелевать, и
добродетель, и даже милость богов. Это венец мещанской
калокагатии.
6. К характеристике мещанской калокагатии
Имея теперь общие сведения о мещанской калокагатии,
коснемся вопросов сравнительно исторических.
а) Невольно возникает вопрос: как могла
возникнуть такого рода мещанская калокагатия в греческой
культуре и в каком отношении находится она к другим
социально-историческим типам греческой калокагатии?
При всем расхождении мещанской калокагатии с
аристократической и общественно-демонстративной прежде
всего не надо упускать и черт сходства. Несомненно,
что и аристократическая и мещанская калокагатии служили в
Греции некоторого рода стремлением к совершенству, к
самоцельности. Аристократическая калокагатия довлеет в
себе, блаженно сосредоточена в себе; и мещанин тоже
самодоволен, тоже блаженно вращается в замкнутом круге
достигнутой или достигаемой сытости. Там и здесь
богатство, здоровье, сила, имущество идеализированы,
возведены на ступень каких-то самодовлеющих принципов; там
и здесь в известном смысле какой-то своеобразный социальный
утилитаризм, какая-то замкнутость в мире природных,
практически жизненных ценностей. Таким образом, по крайней
мере формально, структурно мещанский идеал Греции вполне
вмещается в рамки классического идеала, составляя, может
быть, один из его полюсов. То, что мы можем видеть и
чувствовать в произведениях классического искусства, все
это здоровое и прекрасное самодовление жизни упирается, с
одной стороны, в аристократическую, с другой в мещанскую
калокагатию, содержа посредине, на своем, так сказать,
смысловом экваторе, в своем центре, ту социальную и
духовную культуру, которая нашла свое наилучшее выражение в
классических Олимпийских и других играх и состязаниях.
Но, конечно, свойство обоих указанных полюсов античной
социально-исторической калокагатии есть, как это уже
указано, сходство более или менее формальное или
структурное. Это все же полюсы и, прежде всего, по своему
социальному содержанию. В аристократической калокагатии на
первом плане стоит род и его социально-биологические
качества, то есть порода. Аристократ, если угодно,
тоже в некотором смысле предприниматель и тоже не
чужд рациональности. Но его предпринимательство не
индивидуальное. Он хочет охранить и поддержать свой род. А
так как сам по себе род есть явление стихийное и аристократ
не может управлять этой стихией, то его стремление
сохранить и поддержать свой род сводится к поддержанию
того, что есть, то есть всегда к более или менее
консервативному, хотя в то же время и героическому
охранению традиционных идеалов. Тут он даже может поступать
как угодно рационально. Игры, состязания, театры,
процессии, увековечение героев все это было в Греции
очень целесообразно продумано, все делалось весьма
расчетливо. Однако рациональность имела для аристократа
одну цель укрепить в виде твердой и непреложной традиции
родовую сущность героев.
А что делает мещанин? Мы видели, что за трагедии и
комедии он не хочет дать и ломаного гроша. Он не связан ни
с каким родом и тем более породой. Все его преимущества,
качества, достижения заработаны им своей собственной рукой,
а не получены вместе с рождением, вместе с кровью, с телом
от родителей и дедов. Он индивидуалист, весь мир
он рассматривает через очки собственной личности, признавая
его лишь постольку, поскольку он вмещается в его
субъективность и поскольку он соизмерим с нею. Поэтому он,
уже не ценит никаких традиционно-родовых устоев жизни,
возникших стихийно из невозможности рационально овладеть
этой жизнью. Личность мещанина легко "овладевает" не только
жизнью и бытием, но и всей природой, миром и даже богами.
Мещанское сознание не может не быть деятельным, активным,
предприимчивым, не может не бороться против созерцательных
аристократических идеалов, которые кажутся ему слишком
статичными, неповоротливыми, косными, слишком мертвыми и
пустыми, слишком скованными, деспотичными и ретроградными.
Так мещанская калокагатия видоизменяет то "рациональное" и
то "предприимчивое", что есть в аристократии, наполняя эти
понятия совершенно иным социальным смыслом и содержанием.
б) Мещанская калокагатия Ксенофонта, насколько
можно судить, есть явление свежее и могучее. Напрасно
многие историки квалифицировали социальную философию
Ксенофонта как нечто ретроградное, отсталое, доморощенное,
деревенское. Это-де какая-то устаревшая идеология
неповоротливого и замкнутого в себе крестьянства. Ничего
подобного! Это очень либеральная, очень прогрессивная
система, поскольку всякое мещанство исторически всегда есть
нечто прогрессивное в сравнении с аристократической
культурой. Многие либералы старого времени так же, бывало,
квалифицировали и московский "Домострой" XVI века как нечто
отсталое и заскорузлое, забывая, что развиваемые в нем
мещанские идеалы были тоже прогрессом в сравнении со старым
феодализмом и что, в сущности, поп Сильвестр (если только
он автор "Домостроя") был не менее либерален, чем его
критики и чем хотя бы тот же древнегреческий Ксенофонт.
Восходящая мещанская калокагатия на стадии Ксенофонта
чувствует себя очень уверенно, крепко, задористо.
По-видимому, в ней еще бурлит молодость. Сытым баском
Ксенофонт изливает свои мещанские откровения; и, очевидно,
жизнь еще не стукнула по головке эту калокагатию, которая
все еще ценит мировую и человеческую трагедию не больше
выеденного яйца, картина, так несходная с последующей
эллинистической калокагатией стоиков, эпикурейцев и
скептиков. Эллинистическая калокагатия возникает на
пепелище трагически погибшей культуры эллинства.
Калокагатия же Ксенофонта еще полна надежд, у нее сытое
брюшко; и она пока еще вольной птицей выводит в цветущем,
еще не сожженном лесу классического эллинства свои
заливистые мещанские трели.
7. Политическая калокагатия
а) Данное нами со слов Ксенофонта изображение
социально-исторической калокагатии таково, что не может не
напрашиваться мысль о политических выводах из нее. Раз
мещанство созрело до такой степени отчетливости, оно не
могло не найти своего выражения и в определенных
политических партиях или, по крайней мере, в определенных
политических программах или учениях. Некоторые материалы на
эту тему можно найти у того же Ксенофонта и у Аристотеля.
б) В "Истории Греции" Ксенофонт несколько раз
говорит о каких-то caloi cagathoi, общественно-политическое
значение которых не вполне ясно. В Hell., II 3 речь идет о
правлении Тридцати тиранов, как известно, олигархов,
зверски расправлявшихся с демократией при помощи бешеного
террора. "...Они, первым делом, арестовывали и казнили тех,
о которых при демократическом строе всем было известно, что
они сикофанты и тягостны добрым гражданам (calois
cagathois, II 3, 12 Лурье). Далее приводятся слова Ферамена:
"Нехорошо казнить людей, вся вина которых в том, что они
пользовались популярностью в массе, если от них не было
никакого вреда добрым гражданам" (II 3, 15).
Когда Тридцать тиранов составили список в три тысячи
граждан для участия в правлении, тот же Ферамен говорил, что
"ему представляется нелепостью то, что они (Тридцать
тиранов. А.Л.), желая иметь единомышленников
благонамереннейших из граждан сосчитали ровно три тысячи,
как будто есть какая-то внутренняя причина, в силу которой
добрых граждан должно быть как раз столько, и будто
вне списка не может оказаться порядочных людей, а в списках
негодяев" II 3, 19).
Далее опять слова Ферамена:
"...с тех пор, как правители стали арестовывать
добрых граждан, я разошелся с ними во взглядах" (II
3, 38).
"Я буду крайне поражен, почтеннейшие граждане
(caloi cagathoi), если вы в этом деле не придете мне на
помощь" (II 3, 53).
в) Что это за caloi cagathoi, эти "добрые",
"почтеннейшие" и пр. граждане, и кого тут имеет в виду
Ксенофонт? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание
на то, что термин этот употребляет у Ксенофонта
исключительно Ферамен. Кто такой Ферамен? Его позиция в 404
году при Тридцати тиранах проще всего обрисовывается из
таких его слов:
"Я же, Критий, все время неустанно борюсь с крайними
течениями: я борюсь с теми демократами, которые считают,
что настоящая демократия только тогда, когда в правлении
участвуют рабы и нищие, которые, нуждаясь в драхме, готовы
за драхму продать государство; борюсь и с теми олигархами,
которые считают, что настоящая олигархия только тогда,
когда государством управляют по своему произволу несколько
неограниченных владык... Ну же, Критий, укажи мне случай,
когда бы я пытался устранить от участия в государственных
делах добрых граждан, став на сторону хороших
демократов или неограниченных тиранов" (II 3, 48 49).
Кажется, эти слова являются ключом к пониманию
политической калокагатии. Эти "добрые", "почтеннейшие" или,
буквально, "прекрасные и хорошие" граждане суть те, которых
защищает умеренный Ферамен. Они были целы при демократии,
даже могли быть там популярны. Они же претендуют на целость
и при олигархии. Другими словами, это какие-то умеренные
"либералы", сторонники "золотой середины".
Если бы мы захотели очерченную выше
социально-экономическую природу мещанства перевести на
политический язык, мы не получили бы никакой определенной
политической партии, потому что мещанство очень
разнообразно и имеет много стадий и типов своего развития,
то робких и умеренных, то крайних и радикальных.
Политическая позиция Ферамена (и, может быть, самого
Ксенофонта) сводится к умеренному, серединному либерализму;
и это, конечно, только один из многих видов политической
физиономии мещанства. Однако так или иначе, но именно эту
политическую установку Ксенофонт считает и называет
калокагатией. И, следовательно, как образец политической
калокагатии в античности мы имеем серединную между
демократией и олигархией установку.
Может быть, сюда же надо привлечь до некоторой степени и
Аристотеля, занимающего, по крайней мере в
"Политике", определенно умеренно-либеральную позицию. Ставя
вопрос о наилучшей политической форме, Аристотель рассуждает так:
"Если в нашей
"Этике"
удачно сказано, что та жизнь блаженная, при которой нет
препятствий к осуществлению добродетели, что добродетель
есть середина (между двумя крайностями), то нужно признать,
что наилучшей жизнью будет именно "средняя" жизнь, такая
жизнь, при которой "средина" может быть достигнута каждым
индивидом. Необходимо установить тот же самый критерий в
отношении как добродетели, так и порочности государства и
его строя, ведь строй государства это его жизнь.
В каждом государстве мы встречаем три класса
граждан: очень зажиточные, крайне неимущие и третьи,
состоящие в средине между теми и другими. Так как, по
общепринятому мнению, умеренность и средина наилучшее
(между двумя крайностями), то, очевидно, и средний достаток
из всех благ лучше всего. При наличности его легче всего
повиноваться доводам разума; напротив, трудно следовать за
этими доводами человеку сверхпрекрасному, сверхсильному,
сверхзнатному, сверхбогатому или, наоборот, человеку
сверхбедному, сверхслабому, сверхнизкому по своему
политическому положению. Люди первой категории по
преимуществу становятся наглецами и крупными мерзавцами;
люди второй категории обыкновенно делаются подлецами и
мелкими мерзавцами. А из преступлений одни совершаются
из-за наглости, другие вследствие подлости. Сверх того,
люди обеих этих категорий не уклоняются от власти, но
ревностно стремятся к ней, а то и другое приносит
государствам вред" (Polit. IV 9, 3 4, 1295a 35b 10,
Жебелев) и т.д. и т.п.
Прославление "срединности", вообще говоря, проводится
Аристотелем очень упорно и вполне сознательно.
Свою собственную политическую форму Аристотель именует
просто политией. "Говоря попросту, полития является
как бы смешением олигархии и демократии" (IV 6, 2). Что же
берется тут из олигархии и демократии?
"Сущность аристократического строя заключается,
по-видимому, в том, что при нем привилегии, связанные с
гражданскими правами, распределяются в соответствии с
нравственными качествами их обладателей: ведь принципом
аристократии служит добродетель, олигархии богатство,
демократии свобода" (IV 6, 4, 1294a 9 11).
Прежде всего, должны быть объединены высокая
нравственность и богатство. "Лица, обладающие большим
имущественным достатком, чаще всего бывают и более
воспитанны, и более благородного происхождения. Сверх того,
по общественному представлению, лишь зажиточные тем самым
избавлены от стремления приобретать себе богатство, что
влечет за собою совершение (стольких) несправедливостей; а
уж одно это упрочивает за такими людьми название "людей во
всех отношениях совершенных", "знатных" (IV 6, 2).
Значит, калокагатия существует у тех людей, которые
обладают достаточно высокой "нравственностью" и
одновременно богатством. Это главным образом люди
благородного происхождения. Но Аристотель к этому хочет
присоединить и "свободу", "интересы граждан", то есть черты
демократии. Понимающий вместе со всей античностью под
"добродетелью" некую добротность, здоровье духа, хорошую
слаженность души, он не затрудняется отождествлять
аристократию как таковую с царством "добродетели":
"...Аристократическою формою правления по справедливости
можно признать только ту, когда во главе управления стоят
люди абсолютно наилучшие, в нравственном отношении без
каких-либо (ограниченных) предпосылок, а не просто хорошие
мужи; ибо, только при такой форме государственного
управления понятия "хороший муж" и "хороший гражданин"
абсолютно тождественны, тогда как при остальных формах эти
понятия имеют значение относительное, в зависимости от
соответствующего государственного строя" (IV 5, 10, 1293b 1 7).
Но такая абсолютная аристократия, очевидно, не является
для Аристотеля жизненно осуществимой. Аристотель называет
также и такой строй, где "добродетель" сочетается с
богатством, то есть где аристократия клонится к олигархии.
Например, в Карфагене аристократический строй, но там
именно это сочетание. В Спарте же добродетель сочетается с
"народными интересами". Тут, стало быть, уже смешение
аристократии с демократией (IV 5, 11).
Таким образом, "полития", то есть наилучшая политическая
форма, по Аристотелю, в сущности, объединяет "добродетель",
богатство и демократические свободы, являясь в основе все
же, скорее, чем-то аристократическим, так как это-то и есть
правление "наилучших" (aristoi):
"Так как в государственном организме три элемента
претендуют на равнозначимость: политическая свобода,
имущественный достаток и нравственное совершенство
(четвертый элемент благородство происхождения стоит в
ближайшей связи с двумя последними, так как оно искони
связано с имущественным достатком и нравственным
совершенством), то ясно, что политией должно называть такой
государственный строй, при котором объединяются интересы
зажиточных и неимущих, объединение же всех трех элементов
(то есть свободы, богатства и нравственной добродетели)
должно преимущественно характеризовать аристократию по
сравнению с остальными формами государственного строя,
исключая лишь (ту единственную) истинную и прочную его
форму, которая одна и имеет право называться вообще
государственным строем" (IV 6, 5, 1924a 19 25).
Аристотель вообще очень конкретно говорит о совмещении
олигархии (аристократии) и демократии.
"Критерием же того, что такого рода смешение олигархии и
демократии произведено хорошо, служит то, когда можно будет
одну и ту же форму государственного строя называть и
демократией и олигархией. Те, кто пользуются обоими этими
названиями, очевидно, чувствуют, что ими обозначается
смешение прекрасного, а такое смешение заключается именно в
середине, так как в ней находят себе место обе
противоположные крайности. Примером такого прекрасного
смешения олигархического и демократического строя служит
Лакедемонская конституция" (IV 7, 4, 1294b 13 19).
Разумеется, сказать с полной уверенностью, что позиция
Аристотеля в указанных местах "Политики" вполне
тождественна с позицией Ферамена в 404 году и тем более с
позицией самого Ксенофонта, довольно затруднительно. Однако
сходство этих пониманий политической калокагатии не может
не бросаться в глаза; во всяком случае, оно весьма
вероятно.
В подтверждение этому можно привести текст Аристотеля из
его другого сочинения, из "Афинской политии", как раз о
Ферамене и как раз с упоминанием самого термина "прекрасные
и хорошие (добрые)". Вот этот текст:
"Самым лучшим из политических деятелей в Афинах после
деятелей старого времени, по-видимому, являются Никий,
Фукидид и Ферамен.
При этом относительно Никия и Фукидида почти все
согласно признают, что это были не только "прекрасные и
добрые", но и опытные в государственных делах, отечески
относящиеся ко всему государству; что же касается Ферамена,
то вследствие смут, наступивших в его время в
государственной жизни, в оценке его существует разногласие.
Но все-таки люди, серьезно судящие о деле, находят, что он
не только не ниспровергал, как его обвиняют, все виды
государственного строя, а, наоборот, направлял всякий
строй, пока в нем соблюдалась законность. Этим он
показывал, что может трудиться на пользу государства при
всяком устройстве, как и подобает доброму гражданину, но,
если этот строй допускает противозаконие, он не
потворствует ему, а готов навлечь на себя ненависть"
(Athen. Pol., 28; 5 Радциг).
Этот текст сразу доказывает: 1) горячие симпатии
Аристотеля к Ферамену, 2) сочувствие их обоих к умеренной
калокагатии, которая не есть "опытность в государственных
делах", но которая претендует на целость при всех сменах
демократии и олигархии, и 3) серединно-либеральный характер
калокагатийных воззрений Аристотеля и Ферамена.
г) Можно привлечь для характеристики политической
калокагатии еще одно место у Фукидида. Это то место
"Истории", где рассказывается, как афинское войско на
Самосе впервые узнает о планах Алкивиада сблизиться с
персами и о намерении произвести в связи с этим
олигархический переворот в Афинах, чтобы завоевать доверие
персидского царя. Против Алкивиада агитирует Фриних, бывший
тогда стратегом, утверждая, что такого оборота дела не
захотят афинские союзники...
"Союзники, говорит Фриних, уверены, что так
называемые "прекрасные и хорошие" доставят им не меньше
неприятностей, чем демократы, так как они советуют народу и
приводят в исполнение суровые мероприятия, из которых они
очевидным образом извлекают для себя пользу. Быть под
властью таких людей значило бы для союзников подвергнуться
казням, сопряженным с насилием, тогда как демократия служит
убежищем для них и уздою для олигархов" (Thuc. VIII 48, 6).
Что означает здесь калокагатия? Она прежде всего резко
противопоставляется демократии, но есть ли она только
аристократия, не совсем понятно. Ясно, однако, если принять
во внимание исторический фон Греции этого периода, то есть
последние два десятилетия V века, что ориентация Алкивиада
на персов в данный момент есть одно из предзнаменований
переворотов 411 и 404 годов и что, может быть,
принципиально она была не очень далека от позиции Ферамена
в 404 году.
8. Интеллигентски-софистическая калокагатия
а) Переходим еще к одному типу калокагатии из
выработанных в классическую эпоху. Калокагатией себя
мыслила и называла греческая интеллигенция V IV
веков. Прежде всего, это были софисты, но не
только они одни. Считалось, что если человек знает много
наук, если он посвящает им жизнь, если он очень образован,
воспитан, культурен и пр., то он тоже "прекрасный и
хороший" человек. Конечно, интеллигентские слои были так
или иначе связаны с теми или иными социально-политическими
группировками и партиями. Но это в данном случае не так
важно. Важно, что термин "калокагатия" в V и IV веках
относили к интеллигенции, то есть, иначе говоря, к учености
или образованности.
б) Софист Протагор так говорит о себе в
платоновском "Протагоре": "Я более прочих людей могу быть
полезным кому бы то ни было в том, чтобы стать ему
прекрасным и добрым" (328). В "Лахете"
Платона Сократ говорит: "Заплатить софистам, которые одни и
брались сделать из меня настоящего человека (calon te
cagathon), мне нечем" (186c).
Далее, мы имеем несколько текстов из Аристофана,
употребляющего этот термин иронически, но по адресу именно
софистов. В "Облаках" Стрепсиад хочет послать своего сына
поучиться у Сократа, который здесь мыслится находящимся в
одном лагере с софистами. И когда сын спрашивает, что же
это такое, Стрепсиад отвечает: "Я не знаю их имени в
точности. Это ученые мудрилы и благородные (caloi te
cagathoi)" (100 101, прозаический перевод). Стрепсиад,
конечно, употребляет этот термин вполне искренне. Но
Аристофан здесь иронизирует над софистической
образованностью. В "Лягушках" Эсхил несколько раз
перебивает Еврипида словами "потерял флакончик", на что
Дионис, между прочим, говорит Эсхилу, чтобы он продал этот
флакончик, то есть не настаивал на том, будто эти слова
можно приставить к любому прологу у Еврипида. Вместе с тем
Дионис говорит, что за какой-нибудь обол Эсхил найдет еще
другой "хорошенький" (calën te cagathën)
флакончик (1236). Так можно было бы здесь перевести этот
термин, имея в виду, что здесь осмеивается размазанный и,
так сказать, "надушенный" стиль
Еврипида.
в) Но термин "калокагатия" прилагался и вообще к
умным и образованным ученым, мыслящим людям. У Платона в
"Алкивиаде первом" речь идет о том, как стать хорошим
человеком и гражданином, причем говорится о хорошем в общем
смысле, когда человек хорош не в верховой езде, не в
морском деле и не в прочих частных областях, но хорош
вообще. Алкивиад говорит: "Я разумею тех из афинян, которые
считаются хорошими гражданами". На это Сократ
спрашивает: "А под хорошими у тебя разумеются смыслящие
(phronimoys) в чем-либо или не смыслящие? " "Смыслящие",
говорит Алкивиад. "И кто в чем смыслит, продолжает
Сократ, тот и хорош в том отношении?" "Да", отвечает
Алкивиад" (Alcib. I 124e 125a). И далее идет разговор о
том, что смыслить надо опять-таки не в шитье и пр., но
вообще. Таким образом, люди, умеющие расчленять и
синтезировать, строго различая общее и частное, не
уклоняясь от существа вопроса, эти люди тоже
калокагатийны. К ним Сократ отсылает другого своего
собеседника в диалоге "Феаг" (127a): "Ведь мы готовы свести
тебя с кем хочешь из афинян, превосходных в делах
политических, который бы даром занимался с тобою".
"Превосходные" здесь по-гречески caloi cagathoi и
понимаются под ними общественные деятели, почитаемые
в своей деятельности и умеющие ей научить.
г) На границе между этим интеллигентским и
философским типом калокагатии находится то понимание,
которое имеется у оратора Исократа (436 338 до
н.э.). У него еще нет попытки вскрыть калокагатию как
философское понятие, но те три места, которые можно тут
привести, указывают на очень серьезный подход Исократа к
этому вопросу.
Первые два места содержатся в речи Демонику
(принадлежность ее Исократу оспаривается), которую следует
обязательно иметь в виду для того, чтобы понять, насколько
изменилось моральное сознание греков в IV веке в сравнении
с героическими и даже чисто классическими идеалами. Речь
эта полна моральных наставлений, даваемых Исократом
молодому Демонику. Исократ пространно говорит о
благочестии, любви к родителям, скромности, о чистом,
стыдливом и целомудренном поведении, о совести, об истинной
славе, о любви к учению, мудрости, о трудолюбии, о
благодеянии, обходительности и т.д. и т.д. Читая эту речь,
чувствуешь себя словно не в Греции. Действительно, это уже
не та Греция, где идеалом были Гераклы, Ахиллы и Тезеи и
где не нужна была какая-то абстрактная мораль в виде
заповедей и правил. Герой здесь не рождается героем, а
становится им в результате долговременных моральных
упражнений, вследствие детально продуманной системы
заповедей, законов, правил, советов, назидания, всяческого
водительства и воспитания. Тут нет даже тех немногих
внешних моментов калокагатии, которые мы находим в
приведенных выше текстах, где говорится об
интеллигентски-софистической калокагатии. Здесь не идет
речь о мышлении, смышлености и пр. Тут только чистая
мораль, и притом главным образом отрицательного содержания,
проповедь воздержания, самоограничения, сдерживания и
т.д. Геракл и Тезей все еще формально выставляются в
качестве идеалов и калокагатии. Но фактически калокагатия
превращена в кодекс нравственности.
О калокагатии в речи Исократа к Демонику мы читаем
дважды в начале речи и в конце ее. Этим подчеркивается,
что основная тема речи есть как раз калокагатия. "Ведь
красоту (callos) или время погубит, или болезнь испортит;
богатство же является помощником более в пороке, чем в
калокагатии" (Isocr. I 6 B 1). "Пользуясь этими примерами
[о возвеличении Зевсом Геракла и о наказании Тантала], тебе
и нужно стремиться к калокагатии" (I 51). Еще одно место с
нашим термином таково: "Это-то уже, полагаю, все знают, что
самой прекрасной и величайшей платой софисту является то,
когда кто-нибудь из учеников становится нравственным
(caloi cagathoi) и благоразумным и среди граждан досточтимым".
Переходом к философской концепции калокагатии мы считаем
это потому, что интеллигентская калокагатия, основанная
главным образом на внутренних, духовных основах
человеческого поведения, у Исократа достигает степени
исключительного внутреннего устроения человека.
Философская калокагатия, тоже основываясь на духовном
устроении человека, все же гораздо шире. Она выражает собой
основы всякой вообще античной калокагатии, а не только
моральной. Исключительная же "нравственность" и "морализм"
как раз и мешают таким концепциям, как у Исократа, быть
общефилософскими. Это только крайняя ступень
интеллигентско-софистической калокагатии.
д) Но прежде чем перейти к философской
калокагатии, сделаем еще одно замечание. Именно концепция
калокагатии типа Исократа, то есть другой, положительный
полюс интеллигентско-софистической калокагатии, легла в
основу эллинистического понимания калокагатии. Эллинизм
это ведь не классика, а реставрация классики. Наиболее
ярко новое эллинистическое понимание калокагатии
представлено у Климента Александрийского (SVF III 225
Arn.), излагающего стоическое учение: "не от природы
(physei), но в результате научения (mathësei)
появляются "прекрасные и хорошие" люди вроде врачей
или кормчих". Тут как раз выражена пропасть, легшая между
классическими и эллинистическими идеалами. Геракл и Тезей
рождались героями. Эллинистический человек рождается
слабым интеллигентом, много мыслящим и чувствующим, но
бессильным. Героем стать он может, но для этого ему
нужна такая жизненная и педагогическая выучка и даже
аскеза, как, например, стоическая.
Остальные три текста с калокагатией (которые можно найти
в собрании стоических фрагментов у Арнима) не очень ярки.
"Всякий прекрасный и хороший безупречен" (III 581 Arn.).
"Отсюда ясно, что именно одно и то же значение выражения [у
стоиков]: "жить согласно природе", "жить прекрасно", также
"прекрасное и хорошее", "добродетель и приобщение
добродетели" (III 16 Arn). Несколько сложнее последний
текст: "Люди, предающие себя смерти за отечество, родителей
или детей, не совершали бы этого... если бы прекрасное
благое естественным образом (physicës) не влекло
всегда к этому выбору их и всякое благородное живое
существо" (III 38 Arn.). Здесь калокагатия (если только
"прекрасное" и "благое" в этом тексте не два разных
понятия) мыслится как нечто природное. Но и тут заметен
эллинистический оттенок: "природность" и "естественность"
мыслятся здесь не объективно, но инстинктивно,
"ощутительно".
9. Философская калокагатия. Ксенофонт
Не рассмотрев античных философских теорий калокагатии,
мы не можем судить с достоверностью о том, противоречивы ли
наличные в античном мире типы калокагатии или им
свойственно определенное единство.
а) Мыслителями, дающими материал для понимания
классической философской калокагатии, являются
Ксенофонт, Платон, Аристотель и Сократ.
После того что мы сказали о многозначности понятия
калокагатии в античности, уже нельзя удивляться тому, что
теоретиками философской калокагатии являются отчасти те же
самые мыслители. Нет ничего невероятного в том, что в
разных сочинениях у одного и того же автора встречаются
несходные формулировки. Дело в том, что кажущиеся
несходными теории в основе своей вполне сходны, так или
иначе одна другой соответствует, хотя показать это, быть
может, и очень трудно в неспециальном исследовании.
Если исходить из предложенных выше материалов, то можно
сделать вывод, что самое общее содержание понятия
калокагатии заключается в особом укладе человеческой
жизни, в той ее специфической организации, когда она
вполне удовлетворяет своему назначению и когда в ней вполне
совпадают всякая заданность и выполнение.
Калокагатия в этом смысле всегда является известным
благоустройством жизни, ее красивой и гармоничной организацией.
Если мы примем это во внимание, то окажется вполне
естественным, что с возникновением философской рефлексии
человеческая мысль устремилась, прежде всего, на
расчленение этой ярко выраженной и бросающейся в глаза
цельности и гармонической законченности, составляющей самое
ядро калокагатии. Расчленение приводит здесь к фиксации
двух противоположностей, а именно того, что задано, и того,
что выполнено, то есть так или иначе понимаемого
внутреннего или общего содержания и внешней, конкретно
данной формы. Собственно говоря, это есть то самое
примитивное и элементарное расчленение и синтезирование,
которое мы находим в традиционных разъяснениях калокагатии.
Мы не начинали с него, потому что составные части его носят
слишком общий характер и потому мало что разъясняют. Но
сейчас, когда необходимые текстовые материалы уже
рассмотрены и их конкретность уже учтена, общность понятия
как раз является наиболее желательной, потому что только
при ее помощи и можно перейти к философской калокагатии.
Философы по-разному трактовали это расчленение.
Ксенофонт обратил внимание на то, что здесь расчленяются
сознание и жизненное осуществление. В том цельном устроении
жизни, когда внутреннее сознание целиком осуществляется во
внешней жизни, возникает не только расчленение этих сторон,
но, очевидно, и их синтезирование. Платон тоже исходит из
внутреннего и кончает внешним, в котором он также видит
осуществление внутреннего, но он подчеркивает момент
гармонизации внутреннего и внешнего. Такое же расчленение и
такое же синтезирование проводит, в конце концов, и
Аристотель. Однако в связи с основным методом своей
философии он начинает, наоборот, с внешнего и эмпирически
жизненного и кончает его внутренним осмыслением.
Дальше этого основного расчленения и синтезирования
греческая философская мысль в данной области, собственно
говоря, не шла, по крайней мере в период классики. Вопрос
может ставиться лишь о разных тенденциях этого расчленения
и о разной степени его детализации.
б) Исходным пунктом воззрений Ксенофонта
на калокагатию в указанных сочинениях является сам
Сократ, его личность. Сократ для Ксенофонта не
только исходный, но и конечный пункт цель. Другими
словами, воплощением калокагатии является не кто иной,
как именно Сократ или его ревностный и достойный
подражатель. Исходя из этого, мы могли бы упростить свою
задачу путем простой характеристики личности и взглядов
Сократа, как они даны в "Воспоминаниях" и "Пире". Но это
было бы слишком упрощенным решением вопроса.
Предпочтительнее поискать в указанных сочинениях Ксенофонта
тексты, содержащие самый термин "калокагатия", и
базироваться главным образом на них. Это, правда, делает
количество приводимых текстов весьма незначительным, но
зато решение поставленной нами задачи становится вполне
определенным.
в) Самым первым и общим суждением о калокагатии у
Ксенофонта Сократа является следующее: "...он исследовал,
что благочестиво и что нечестиво, что прекрасно и что
безобразно, что справедливо и что несправедливо, что
благоразумно и что неблагоразумно, что храбрость и что
трусость, что государство и что государственный муж, что
власть над людьми и что человек, способный властвовать над
людьми, и так далее; кто знает это, тот, думал он, человек
благородный, а кто не знает, по справедливости
заслуживает названия хама"! (Memor. I 1, 16 Соболевский).
Таким образом, калокагатия сближается здесь со
знанием личной и социальной жизни человека. Но
калокагатия не есть просто знание. Знание должно быть
осуществлено, причем оно не остается тут тем же, чем было
до своего осуществления. Оно становится другим, непохожим
на то знание хорошего, которое имеется у поступающего
дурно. Другими словами, это не отвлеченное знание, но некая
мудрость, то есть такое знание, которое стало
жизнью. "Между мудростью и
нравственностью
Сократ не находил различия: он признавал человека вместе и
умным и нравственным, если человек, понимая, в чем состоит
прекрасное и хорошее, руководствуется этим в своих
поступках и, наоборот, зная, в чем состоит нравственно
безобразное, избегает его. В ответ на дальнейший вопрос,
считает ли он умным и воздержанным тех, кто знает, что
должно делать, но поступает наоборот, он сказал: "Столь же
мало, как и неумных и невоздержанных. Все люди, думаю я,
делая выбор из представляющихся им возможностей, поступают
так, как находят всего выгоднее для себя. Поэтому кто
поступает неправильно, тех я не считаю ни умными, ни
нравственными" (III 9, 4). Итак, калокагатия есть
знание, мудрость жизни.
г) Ксенофонт Сократ, однако, отличает
калокагатию и от добрых поступков, и от
добродетели, и от красоты. Как показывает
последний текст, "прекрасное и хорошее" есть то, чем
должен человек руководствоваться в своих поступках, но не
сами поступки. Калокагатия не есть добродетель.
Калокагатия это добродетель, осуществленная в
добродетельных поступках. Она представляет собой как бы
физиономию воплощенной добродетели (а стало быть, и
самой добродетели). Знание, доброго, ставшее жизнью
доброго, дает мудрость. В этой мудрости есть факт
осуществления добра и есть смысл, значимость, вид,
физиономия, картина его осуществления. Вот эта-то картина
(становящаяся, таким образом, моментом мудрости) и есть калокагатия.
Такая мысль лежит в основе следующего рассуждения:
"...И справедливость, и всякая другая добродетель есть
мудрость. Справедливые поступки и вообще все поступки,
основанные на добродетели, прекрасны и хороши. Поэтому
люди, знающие, в чем состоят такие поступки, не захотят
совершить никакой другой поступок вместо такого, а люди не
знающие не могут их совершать и, даже если пытаются
совершить, впадают в ошибку. Таким образом, прекрасные и
хорошие поступки совершают только мудрые, а немудрые не
могут и, даже если пытаются совершить, впадают в ошибку. А
так как справедливые и вообще все прекрасные и хорошие
поступки основаны на добродетели, то из этого следует, что
и справедливость, и всякая другая добродетель есть
мудрость" (III 9, 5).
Наконец, калокагатия, отличаясь от добродетели,
отличается и от красоты как таковой. Если взять
красоту как таковую, без привнесения каких бы то ни было
нравственных моментов, то она способна только разрушать
калокагатию. Калокагатия не есть просто красота или просто
стремление к ней.
д) Каково же соотношение между "хорошим" и
"прекрасным" в калокагатии? Ксенофонтов Сократ стоит здесь
на очень твердой позиции: калокагатия есть нечто вполне
единое и нераздельное, и она совершенно не состоит из
каких-либо двух моментов:
"Разве ты не знаешь, что все по отношению к одному и
тому же прекрасно и хорошо? Так, прежде всего, о духовных
достоинствах нельзя сказать, что они по отношению к одним
предметам нечто хорошее, а по отношению к другим нечто
прекрасное; затем, люди называются и прекрасными и хорошими
в одном и том же отношении и по отношению к одним и тем же
предметам; так же по отношению к одним и тем же предметам и
тело человеческое кажется и прекрасным и хорошим; равным
образом все, чем люди пользуются, считается и прекрасным и
хорошим по отношению к тем же предметам, по отношению к
которым оно полезно" (III 8, 5).
Учение о калокагатии как о некоем единстве качеств, как
видим, высказано у Ксенофонта очень определенно. Это есть
знание, ставшее жизнью, или мудрость, в
которой и заключается единство и нераздельность калокагатии.
Единство не мешает, однако, калокагатии проявляться и
жизненно осуществляться в разных добродетелях. Таких
добродетелей Ксенофонтов Сократ насчитывает три:
справедливость, мужество и целомудрие (воздержанность). Все
это виды проявления калокагатии. Они, по мнению Ксенофонта
Сократа, неразрывно связаны с телом, так как в их
взаимоотношениях с телом и заключается их ценность и самая их реальность.
е) Изучая Ксенофонта с этой точки зрения, мы не
находим у него никаких развитых учений, которые касались бы
специфики знания, ставшего жизнью, или мудростью, но
контексты всех высказываний, связанных с понятием
калокагатии у Ксенофонта, наводят нас на некоторые
соображения, которые необходимо отметить.
Наиболее важным обстоятельством является то, что
калокагатия мыслится им как нечто видимое, убедительное,
демонстративное, понятное субъекту. Так оно и должно
быть, поскольку калокагатия есть внешнее выражение
добродетели, хотя и не сам добродетельный поступок. В
"Воспоминаниях" Ксенофонт видит образец калокагатии или,
лучше сказать, самое калокагатию в Сократе. "...Сократ, я
знаю, являл собою друзьям образец высоконравственного
человека (calon cagathon..." (II 2, 18). Калокагатия
рассматривается у Ксенофонта как нечто выразительно данное,
причем эта выразительность доведена до степени
персонификации. "Так, если он сам был таким, то как он мог
сделать других безбожниками, нарушителями законов,
чревоугодниками, сластолюбцами, неспособными к труду
неженками? Напротив, он многих отвратил от этих пороков,
внушив им стремление к добродетели и подав надежду, что
если они станут заботиться о себе, то будут людьми
нравственными" (caloys cagathoys Conv. I 2, 2).
Следовательно, Сократ отличался калокагатией, и
соприкосновение с ним порождало эту калокагатию и в других.
"...Он никогда не брался быть учителем добродетели, но так
как все видели, что он таков, то это давало надежду людям,
находившимся в общении с ним, что они, подражая ему, станут
такими" (I, 2, 1). В "Пире" (IX 1) читаем, как Ликон после
Сократовой проповеди духовной любви сказал Сократу:
"Клянусь, Герой, ты благородный человек (calos
cagathos)". И что очень важно: реплика Ликона следует после
слов Сократа о "блеске славы" проповедуемой им добродетели:
"...ты будешь таким, если граждане увидят, что ты не для
вида только, а на самом деле стремишься к добродетели.
Ложная слава скоро разоблачается опытом, а истинная
добродетель, если бог не препятствует, своими деяниями
приобретает себе все больший блеск славы!" (VIII 43).
Значит, калокагатия Сократа (то есть калокагатия вообще)
рассматривается как нечто излучающее свет и
блеск, как нечто, относящееся к славе. Те,
кто прикоснется к этой светящейся калокагатии (как,
например, достойные ученики), и сами делаются такими же.
Ученики Сократа, "пока были в общении с Сократом, умели
властвовать собой не из страха, что Сократ накажет их или
побьет, но потому, что тогда они действительно считали
такой образ действий самым лучшим" (Memor. I, 2, 18).
Критий и Алкивиад, пока были в общении с Сократом, были
наилучшими людьми, а когда ушли от него, испортились. И он
не брал платы за обучение других людей. Он никогда не
боялся, что "тот, кто достигнет нравственного совершенства
(ho genomenos calos cagathos), не воздаст величавой
благодарности своему величайшему благодетелю" (I 2, 7).
Очень интересно (Oec. IV 9 10) калокагатия связывается
с честным отношением к делу, такая честность обязательно
заслуживает уважения и похвалы: "Когда... я замечу, что
кто-нибудь стремится быть честным не из-за одной выгоды,
доставляемой честностью, но желает и похвалы от меня, с тем
я обращаюсь уже как со свободным, не только обогащая его,
но и уважая как человека прекрасного и хорошего. Тем,
по-моему, Сократ, отличается человек честолюбивый от
корыстолюбивого, что он готов ради похвалы и уважения и
трудиться где нужно, и подвергаться опасностям, и
воздерживаться от позорной наживы". Даже тут, в контексте
мещанской идеологии, калокагатия продолжает если не
излучать "блеск славы", то, во всяком случае, быть
предметом похвалы, уважения и одобрения.
К числу особенностей калокагатии, как она выявляется у
Ксенофонта, нужно отнести и еще две. Во-первых, из
калокагатии, по-видимому, не исключается женщина,
хотя калокагатия для Ксенофонта явление почти
исключительно мужское: "Если овца плоха, отвечает Сократ,
то обыкновенно мы виним пастуха, и у лошади если есть
недостатки, мы браним всадника; что же касается женщины,
то, если муж ее учит добру, а она дурно ведет хозяйство,
то, конечно, по справедливости на жену падает вина; но если
он не станет учить ее хорошему и она ничего не будет знать,
тогда не падает ли по справедливости вина на мужа?" (Oec.
III 11). Второе то, что калокагатия не есть нечто
обязательно серьезное. Она сказывается и в забаве, веселии,
радостях. Так, в "Пире" Ксенофонт, по-видимому, и хотел
обрисовать калокагатию Сократа со стороны именно более
веселой и радостной. По крайней мере, самое начало "Пира"
не оставляет в этом отношении никаких сомнений (I 11): "Как
мне кажется, заслуживает упоминания все, что делает людей
высокой нравственности (tön calön cagathön
andrön) не только при занятиях серьезных, но и во
время забав". И "Пир" посвящен изображению веселого
Сократа, и не только без всякого принижения его, но все с
тем же, обычным для Ксенофонта, возвеличением.
ж) Если еще в "Экономике" как-то можно было
разграничивать Ксенофонта и Сократа, то в двух только что
цитированных сочинениях это разграничение почти невозможно,
так что развитое здесь учение о калокагатии можно с
одинаковым правом считать и Сократовым.
Мы видим, что у Ксенофонта калокагатия впервые
начинает оформляться как философское понятие. Еще нет
достаточно тонкого и гибкого логического аппарата, чтобы
проанализировать его до конца. Оно еще погружено в недра
жизненного опыта и почти от него не отделялось. Но уже
здесь мы находим то основное ее "зерно", которое останется
в ней навсегда. А именно, калокагатия (или красота,
именуемая как калокагатия) есть знание, ставшее жизнью,
или мудрость. В сущности говоря, ни Платон, ни
Аристотель, ни даже неоплатоники не дали ничего нового по
сравнению с этим онтологическим, то есть
объективно-реальным, учением о мудрости, о так называемой
"софии". Онтологически понимаемая, то есть жизненно
осуществленная, психически и физически реализованная
"мудрость" и есть центральное учение всей античной
эстетики. У Ксенофонта это еще даже не учение, калокагатия
здесь связана с его мещанской идеологией и с его
сократовским чувством жизни. Но в Ксенофонто-Сократовой
калокагатии мы уже нащупываем некую объективную
устойчивость, понятную и убедительную для другого субъекта;
вполне осязаема в ней и самоцель, самосовершенство,
самообоснованность, созерцательная и жизненная
самостоятельность; наконец, эта калокагатия руководима
"добродетелью", то есть очень общими, вполне идеальными, мы
бы сказали, абстрактно-всеобщими принципами, не мешающими
ей быть, однако, не только устроением души, но в известном
смысле (а именно с точки зрения этой "души") и устроением тела.
Все это дает нам полное право вместе с Ю.Вальтером (143)
назвать Ксенофонта "в собственном смысле пророком
калокагатии", хотя у самого Ю.Вальтера весьма
искаженное понимание Ксенофонта, основанное на том, что
"философски понятое "прекрасное и хорошее" не может быть
приведено ни в какое отношение к эстетическим
представлениям, но его содержание как понятия всецело
покрывается добром и добродетелью" (148).
10. Продолжение. Платон
а) То, что мы находим у Ксенофонта по вопросу о
калокагатии, требует в некоторых пунктах разъяснений и
дополнений. Во-первых, если калокагатия есть осуществление
мудрости и знания, то ясно, что для полноты картины надо
было знать свойства и природу этой мудрости, которая
является источником добра и блага. Далее, содержание
калокагатии дано в приведенных материалах в значительной
степени формально. Ведь то, что она осуществляет благо, а
благие поступки руководствуются ею, не вскрывает еще
содержания калокагатии. Кроме того, нельзя считать вполне
выясненным и отношение калокагатии к "благу" и к "красоте",
из которых она так или иначе вырастает. Она есть
осуществление и того и другого. Но что именно происходит
здесь с "благом" и "красотой", собственно говоря, не очень
ясно.
На все эти вопросы мы находим если не окончательные, то,
во всяком случае, некоторого рода ответы в последующей
истории рассматриваемого понятия. На вопрос о "благе"
отвечают многочисленные философы, в том числе тот же
Ксенофонт, не говоря уже о Платоне и Аристотеле.
Вопроса о "красоте" касался Платон.
Обратимся к этим авторам.
б) Греческие "добродетели" это самая
обыкновенная жизненная потребность, самое насущное и
общеполезное, самое простое и, так сказать, стихийное
здоровье, физическое, психическое и социальное.
Будучи по своему содержанию просто непосредственным
жизненным проявлением, "благо" формально является чем-то
"идеальным" и нормативным. Здоровье тела, например, есть
добро, но оно не просто факт, но и некоторая норма, некое
идеальное состояние организма, к которому надо стремиться.
И для античного философа "добро", "благо", являющиеся
фактически не чем иным, как стихийным процессом (или
результатом) жизни и бытия, формально суть некоторые
"совершенства", "самоцель", "нормы" и "сущность".
Итак, если в калокагатии проявлены "ум", "мудрость",
"душа", "внутреннее", "идеальное" и т.д. и т.д., то это еще
не исключает жизненной природы калокагатии. Она всегда
является процессом стихийно-физическим и
стихийно-жизненным, но именно то обстоятельство, что данное
жизненное явление существует само по себе как самоцель, что
оно не только реально, но и идеально, это-то и превращает
ее из явления чисто жизненного в "добро", в
"добродетель", в калокагатию.
Такова природа того блага, которое составляет
калокагатию. Теперь коснемся содержания ее, то есть
содержания "самооформления" калокагатии.
в) Тут нам может помочь Платон.
Употребление термина и понятия калокагатии у Платона
довольно разнообразно. Выше мы уже имели случай отметить
применение у него этого термина в смысле породы, в
политическом смысле и интеллигентски-софистическом
значении. Приведем текст, который имеет решающее значение в
вопросе о содержании калокагатии. Это "Тимей" (Tim. 87c 89d).
Здесь ставится вопрос о физическом здоровье и о болезни
и спрашивается, что такое лечение. Оказывается: "Всякое
благо прекрасно, а прекрасное не лишено
соразмерности. А следовательно, живое существо, если
оно должно быть таковым, надо считать соразмерным"
(87c). Здоровье тела как раз и есть соразмерность тела и
души. Конечно, душа может быть значительнее, чем слабое
тело. Но это значит, что в целом в данном случае
красоты не получается. Наиболее красивое и привлекательное
именно в указанной соразмерности (87d). Если душа или ум
волнуются слишком подвижно и страстно, тело может страдать
и болеть; и если очень интенсивно живущее тело будет
соединяться с вялой душой, страдать будут душа и ум.
"И существует единственное спасение и от того и от
другого: не приводить в движение ни души без тела, ни тела
без души, чтобы, взаимно ограничиваясь, они приходили к
равновесию и здоровью. Поэтому человек, изучающий науки или
напрягающий свой ум над каким-нибудь другим занятием,
должен совершать и телесные движения путем упражнения в
гимнастике, а тот, кто ревностно формирует свое тело,
должен, наоборот, совершать движения душой, занимаясь
музыкой и всякой философией, если он хочет по
справедливости прослыть человеком как прекрасным,
так одновременно и хорошим" (88bc).
Ответ ясен: калокагатия есть соразмерность души,
соразмерность тела и соразмерность того и другого.
Ответ этот можно было предвидеть и на материалах
Ксенофонта. В его "Воспоминаниях" можно прочесть:
"Однако и тело он сам не оставлял без работы и тех, кто
не заботился о нем, не хвалил. Так, он осуждал тех, которые
чрезмерно наедаются и потом чрезмерно работают, а находил
полезным есть столько, сколько душа принимает с
удовольствием, чтобы переваривать пищу удовлетворительно;
такой распорядок он считал и довольно здоровым, и не
мешающим заботиться о душе" (I 2, 4).
В Memor. III 12, как сказано, дано целое рассуждение о
заботах относительно тела. Там же, между прочим, читаем:
"Даже и там, где, по-видимому, тело наименее нужно, в
области мышления, даже и в этой области кто этого не
знает? многие делают большие ошибки оттого, что не
обладают физическим здоровьем. Кроме того, забывчивость,
уныние, дурное расположение духа, сумасшествие у многих
часто вторгаются в мыслительную способность вследствие
телесной слабости до такой степени, что выбивают даже
знания. Напротив, у кого телосложение крепкое, тот вполне
гарантирован от таких невзгод и ему не угрожает никакой
опасности испытать что-нибудь подобное по случаю телесной
слабости; скорее, можно ожидать, что для достижения
результатов, противоположных тем, какие бывают следствием
телесной слабости, полезна также и крепость тела" (III 12, 6 7).
Это есть, конечно, уже учение о взаимной соразмерности
души и тела. Формулировка Платона отличается от
Ксенофонтовой только большей общностью. Платон уже не
говорит о знании, или уме, не говорит даже о мудрости. Он
говорит о "душе". Точно так же он говорит не просто об
осуществлении знания, но о "теле".
г) Такую формулировку калокагатии мы находим
впервые у Платона. От Платона идет воззрение на
калокагатию как на гармонию души и тела. В таком
виде калокагатия, пожалуй, имеет наибольший смысл, хотя,
чтобы его окончательно понять, нужно было бы немало
говорить о понятии души и о понятии тела у Платона. Но, не
входя здесь в подробное рассмотрение этого вопроса,
заметим, что у Платона "душа" не обладает никаким
личностным содержанием (по-гречески даже нет такого термина
"личность"); в ней важно только самодвижение, вечное
самодвижение (Phaedr. 245c e). И когда заходит речь о
гармонии такой души и тела, мы ничего другого не получаем,
как только гармонию разного рода движений, физических и
психических. Платонизм тут не выходит за пределы
классической скульптуры Мирона, Фидия, Поликлета,
Праксителя, Скопаса и Лисиппа.
д) Вместе с тем формула Платона раскрывает нам
именно содержание калокагатии.
Во-первых, калокагатия здесь это сфера, где
сливаются и отождествляются стихии души и тела.
Возникает бытие, которое есть настолько же душа, насколько
и тело. Душа, жизнь, мудрость, знание, ум все это стало
здесь телом, стало видимым и осязаемым. И, наоборот, тело,
вещество, материя, физические стихии все это превратилось
в жизнь, в дыхание, в смысл, в живой и вечно творящий ум, в
мудрость. Единство и полное тождество, полная
неразличимость и нераздельность души и тела, когда уже нет
ни души, ни тела, а есть телесная видимая душа и душевно
живущее тело, вот что такое калокагатия у Платона.
Во-вторых, Платон употребляет специальный термин для
характеристики содержания такого тождества души и тела.
Этот термин "соразмерность" (xymmetria). Почему
Платон видит в калокагатии только соразмерность? Ответить
на этот вопрос станет легче, если мы вспомним некоторые
особенности античной эстетической мысли. Повторяем, ни
"душа", ни "ум", ни "мудрость", ни "идея" не содержат у
античных мыслителей чего-нибудь духовного или личностного.
Что такое душа, по Платону? Это есть только принцип
движения или, вернее, самодвижения. Когда такая душа
воплощается в теле, то, очевидно, тело становится главным
образом упорядоченностью тех или иных физических движений.
Из того, что вообще могло бы получаться из гармонии души и
тела, античность берет главным образом соразмерность,
симметрию. Все проблемы духа даны тут не
самостоятельно, не в том свободном и безудержном
самораскрытии, которое мы находим в западноевропейском
искусстве, часто попирающем всякие нормы соразмерности, а в
своей привязанности к живому телу, к его симметрии,
связанной уравновешенными, телесно-соразмерными
соотношениями. Это и есть классическое в античном искусстве.
У Платона содержится и еще ряд текстов, более или менее
соответствующих сказанному.
В "Государстве" учение о "симметрии" души, переходящей в
"симметрию" жизни и поступков, излагается в связи с теорией
музыкального воспитания.
"Ввиду этого главнейшая пища (для воспитанников) не
заключается ли в музыкальном ритме, поскольку ритм и
гармония больше всего внедряются внутрь души и весьма
интенсивно действуют на нее (неся с собою прекрасное
оформление (eyschëmosynën) и делая [ее]
прекрасной по виду (eyschëmona), если кто питался
правильно, а если нет то наоборот), а также поскольку
тот, кто воспитан на такой пище, может, в свою очередь,
тончайшим образом ощущать, что опущено, что не сделано
прекрасно или не произведено прекрасноë Поэтому если
он правильно испытывает неудовольствие [то есть критически
относится к действительности], то он восхваляет прекрасное
и, радостно принимая его в душу, питается им и становится
"прекрасным и хорошим", а безобразное правильно
порицает и ненавидит его уже с юности..." (III 401de).
Другими словами, если в предыдущем тексте говорилось о
"симметрии" в калокагатии, то здесь говорится о "музыке"
ее, то есть о "ритме и гармонии", проявляющихся и внутри
человека и вовне, в его суждениях и поступках. Калокагатиен
тот, у кого душа воспитана "музыкально", а внешнее
поведение с этим согласуется.
Приведенный текст излагает наиболее "внутренние" основы
калокагатии, ибо здесь упор делается на калокагатию как на
известного рода упорядочение души.
Такое же "внутреннее" значение содержится и в
определении (Def. 412e): "Калокагатия есть состояние с
предустановкой на выбор наилучшего" (hexis proaireticë
ton beltistön). В связи с этим калокагатия может быть,
по Платону, свойственна и величавому, умудренному жизнью и
мыслью старцу. "Парменид был уже очень стар, совершенно
сед, но на вид прекрасен и хорош" (Parm. 127ab).
Противоположный смысл заключен в Euthyd. 271b: "...тот
[красивый юноша] еще жидок, а этот возмужал и превосходен
(calos cai agathos) на вид" (перевод В.Соловьева). Здесь
предполагается наиболее внешняя форма калокагатии.
Между этими двумя крайними пониманиями, наиболее
"внутренним" и наиболее "внешним", можно поместить и ряд
других текстов из Платона. "Я утверждаю, что прекрасный
и хороший человек счастлив, а несправедливый и злой
несчастлив" (Gorg. 470e). "Ведь прекрасно же и
хорошо упорство, соединенное с разумом?" (Lach. 192c).
"Не было бы недостойно, чтобы люди прекрасные и
хорошие получали приказания. Ведь они сами, так или
иначе, легко откроют то, что нужно было бы определить
законом" (R.P. IV 425d). "Следовательно, когда ты молишься
богам об успехе и благах, то молишься ты тогда не о чем
другом, как о том, чтобы стать прекрасным и хорошим, так
как ведь у прекрасных и хороших людей дела оказываются
хорошими, а у дурных худыми" (Eryx. 298d).
Таким образом, у Платона калокагатия связывается с
представлением о счастье, разумности, свободной
убежденности, которая не нуждается во внешних законах и
заключается в естественном умении правильно пользоваться
жизненными благами.
е) Есть еще один текст, но его трудно поместить в
какую-нибудь рубрику: "Уходя оттуда, я рассуждал сам с
собою, что этого человека я мудрее, потому что мы с ним,
пожалуй, оба ничего хорошего (calon cagathon) не знаем, но
он, не зная, думает, что он что-то знает, а я, коли уж не
знаю, то и не думаю, что знаю" (Apol. 21d). Здесь Сократ
хочет сказать, что он ничего не знает, в том числе и
калокагатии. Если угодно, можно сказать, что здесь
подчеркивается важность калокагатии и трудность ее
исследования.
11. Окончание. Аристотель
Поставленный выше вопрос об отношении калокагатии к
"добру" и "красоте" затрагивается у Аристотеля,
который дал две малоизвестные концепции калокагатии,
настоятельно требующие анализа, тем более что одна из них
является, пожалуй, наиболее полно отражающей в понятии то,
что повсюду наблюдается в жизни Древней Греции.
а) Первая концепция содержится в "Большой этике"
(Magn. mor. II 9). Процитируем эту главу (в нашем переводе,
где мы трудночитаемые места у Аристотеля сопровождаем в
скобках нашими пояснениями).
"После того как мы высказались о каждой из добродетелей
в отдельности, остается, надо полагать, сказать и вообще,
со сведением отдельного в целое. Именно, для
совершенного ревнительства существует не худо высказанное
наименование "калокагатия". Из этого выходит, что
"прекрасным и хорошим" [человек] является тогда, когда он
оказывается совершенным ревнителем (spoydaios). В самом
деле, о "прекрасном и хорошем" человеке говорят в связи с
добродетелью, как, например, "прекрасным и хорошим"
называют справедливого, мужественного, целомудренного и
вообще [связывают] с [теми или другими] добродетелями.
Однако поскольку мы употребляем [здесь] двойное деление, то
есть одно называем прекрасным, другое хорошим [благим], и
поскольку из хорошего [из благ] одно хорошее просто,
другое [не просто], и прекрасным [мы называем], например,
добродетели [сами по себе] и связанные с добродетелью
поступки, а благом, например, власть, богатство, славу,
почет и подобное, то, следовательно, "прекрасным и хорошим"
является тот, у которого хорошим является просто
хорошее и прекрасным просто прекрасное, [а не
отдельные и случайные проявления того и другого]. Такой,
стало быть, "прекрасен и хорош". У кого же хорошим не
является просто хорошее, тот не есть "прекрасный и
хороший", как и здоровым нельзя считать того, у которого
здоровым не является здоровое [здоровье] просто.
Действительно, если богатство и власть своим появлением
наносят кому-нибудь вред, они не могут быть достойны
выбора, но [каждый] захочет иметь для себя то, что не может
ему повредить. А если он оказывается таким, что он
уклоняется от какого-нибудь добра, чтобы его не было, то он
не может считаться "прекрасным и хорошим". Но [только]
такой человек является "прекрасным и хорошим", у которого
все хорошее есть сущее хорошее, [то есть хорошее в
своей идейности и принципиальности], и который не терпит
никакого ущерба, как, например, от богатства и власти".
б) Текст этот содержит нечто новое.
Прежде всего, калокагатия мыслится как целое и
самостоятельное, а не как отдельная добродетель. Но если
черты такого взгляда попадались нам и раньше, то уже
совершенно новым является понимание "хорошего" как
внешних благ (власть, богатство, слава, почет), а
"прекрасного" как внутренних добродетелей
(справедливости, мужества и пр.). До сих пор мы видели, что
добродетели считались "благом", а их внешнее осуществление
"красотой". Здесь, наоборот, благо это обычные
жизненные блага, а красота это добродетели.
Далее, блага и красота, по учению Аристотеля, должны
входить в калокагатию "просто". Это означает, что "блага",
из которых складывается калокагатия, должны быть
"безвредными": они не должны таить в себе небытия,
они должны быть только бытием, только сущим.
в) Разберем эти новые моменты в концепции
калокагатии.
Что касается интерпретации Аристотелем "хорошего" как
внешних благ, а "прекрасного" как добродетели, то здесь
лишь на первый взгляд возникает впечатление новшества и
необычности. Дело в том, что поскольку калокагатия есть
полное и окончательное слияние "прекрасного"
и "хорошего", то становится уже несущественным вопрос о
том, куда относить внешние блага и куда добродетели. Все
внешне "хорошее" тут "добродетельно", и всякая
"добродетель" здесь неразлучна с богатством, честью, славой
и пр. Таким образом, расхождение Аристотеля с предыдущими
концепциями здесь в значительной мере только кажущееся.
Далее, если Аристотель расходится здесь с Платоном и
Ксенофонтом, то он едва ли расходится с более древними,
чисто жизненными концепциями калокагатии. Скорее и наивное
представление о калокагатии было, по-видимому, именно
таковым, что благом считалось богатство, честь, власть и
т.д. Аристотель здесь, насколько можно судить, только
воскрешает старое, и, может быть, наиболее старое в Греции
понимание калокагатии.
Наконец, такая интерпретация соответствует и основному
направлению философии самого Аристотеля, который любил
исходить не "сверху", а "снизу". Блага для него
общежизненные человеческие блага: здоровье, сила, крепость,
власть и т.д. В своей практической философии он говорит
только об упорядочении, об оформлении, об осмыслении этих
благ, не выходя за пределы их и не жертвуя ими для
чего-нибудь другого. Тут заметен "позитивистский" уклон
Аристотеля в сравнении с Платоном, для которого внешние
блага были только отражением и завершением внутреннего и
высшего, а не базой для него.
Очень важна и другая особенность приведенного текста
Аристотеля его замечание о "просто". Здесь Аристотель
отвечает на вопрос о взаимоотношении калокагатии с
"прекрасным" и "добрым". Раньше по этому вопросу мы имели
лишь ходячее греческое представление о том, что калокагатия
осуществляет собой "добро" и "красоту". Аристотель дает
более глубокий и обстоятельный ответ. Дело, оказывается, в
том, что блага, из обладания которыми состоит калокагатия,
исключают какую-либо текучесть, непостоянство и внутреннюю
противоречивость. Если человек обладает, например,
богатством и это богатство ему вредит, то такой человек не
может быть "прекрасным" и "хорошим". Если человек
пользуется большой славой, но извлекает из нее постоянную
корысть, то такой человек не "прекрасен" и не "добр".
В этих рассуждениях Аристотеля о калокагатии не все
достаточно ясно. Ведь в приведенном высказывании
"прекрасное" и "хорошее" совершенно не разделяются по своим
функциям. Хотя сама калокагатия и есть нечто цельное, все
же нельзя забывать, что эта цельность получилась в
результате известного противоречия как
"прекрасного", так и "хорошего". Спрашивается: в каком же
отношении находятся между собой эти моменты, в то время
когда они через аристотелевское "просто" претворяются в
калокагатию? Точно так же было бы желательно получить и
более подробное разъяснение относительно самого
аристотелевского "просто".
Попробуем поискать ответа в другом рассуждении
Аристотеля о калокагатии.
г) Он содержится в "Этике Эвдемовой" (Eth. Eud.
VII 15). Основными терминами являются здесь "хорошее" и
"прекрасное", и ставится вопрос о взаимоотношении того и
другого в калокагатии. Термин "хорошее" очень общий,
весьма неопределенный и, прямо надо сказать, неудачный. Что
Аристотель хочет им сказать? Определение, которое он дает
этому понятию, а именно: "то, что достойно выбора", тоже
недостаточно ясно. Очевидно, Аристотель имеет здесь в виду
область человеческой воли и поведения, то есть то, что мы
называем моралью.
Не очень понятен у Аристотеля и термин "прекрасное",
который поясняется им при помощи слишком уж общего, и
притом обывательского, выражения: "То, что достойно
похвалы". Если понимать это выражение буквально, то оно
ровно ничего не говорит; его можно одинаково относить и к
красоте, и к морали, и к чему угодно. Приходится читать
между строк и принимать во внимание весь контекст философии
Аристотеля. В таком случае "прекрасное" у Аристотеля очень
близко связано с областью наглядных представлений,
материально данных образов и включает в себя момент оценки,
как того и следовало ожидать от понятия прекрасного.
Аристотель различает в области красоты и морали два
момента. Один момент это сам принцип красоты и сам
принцип морали, их идейный смысл и их идейно-теоретическая
сторона. Другой момент это не принципиальное, но
фактическое содержание красоты и морали. Фактическое
содержание может в разной степени приближаться к принципу и
в разной степени от него удаляться. Фактически существующая
красота и фактически существующая мораль могут или целиком
воплощать свой принцип и свою идею, или воплощать их
отчасти, или даже совсем не воплощать, что ведет красоту
уже к безобразию, а мораль к аморализму или
безнравственности. Это различение ясно. Однако выбранная
Аристотелем терминология, будучи неудачной вообще, в наше
время настолько устарела, что без специального комментария
уже оказывается непонятной.
Принцип красоты и принцип морали характеризуются
Аристотелем при помощи термина "просто", то есть он говорит
о "хорошем просто" и о "прекрасном просто". То же самое
характеризуется у Аристотеля при помощи выражения "само по
себе" или "само в себе".
Вторая сторона красоты и морали, фактическая, тоже не
нашла для себя у Аристотеля вполне удовлетворительной
терминологии. Выражает ее Аристотель понятием "хорошее по
природе". "По природе" означает у него, видимо, просто
фактическое состояние нравственности, то есть отвечает не
на вопрос, что такое хорошее, а на вопрос, что хорошо.
"Хорошим по природе" является, например, богатство,
здоровье, слава и т.д. Все это есть некоторого рода
материальные блага, но еще неизвестно, как тот или иной
человек воспользуется этими благами. Если термин ("хорошее"
относится к человеческой воле и поведению, то есть, в конце
концов, к морали, то термин "хорошее по природе", согласно
разъяснению самого Аристотеля, только и можно перевести на
современный язык как "материальное благо".
Из какой же красоты и из какой морали возникает
калокагатия? Оказывается, из области морали нужно брать не
самое мораль, то есть не сам принцип морали, но ее
фактическое осуществление, то есть использование тех или
иных материальных благ. А из красоты, наоборот, надо брать
не ее фактическое состояние (которое может доходить и до
безобразия), а именно сам ее принцип, ее "для себя", "в
себе", "ради себя" или "через себя". Калокагатия возникает,
по Аристотелю, в тот момент, когда использование
материальных благ перестает быть пагубным для этих благ, но
начинает сохранять их в постоянном виде, так что они теперь
уже существуют "сами по себе", "сами через себя" и "сами
ради себя". Таким образом, калокагатия у Аристотеля в
данном его тексте является внутренним объединением морали и
красоты на основе создания и использования вполне
материальных благ. Нужно пользоваться всеми материальными
благами жизни, но пользоваться ими так, чтобы они не
уничтожались, а оставались в том же виде или
прогрессировали. Вот это и есть аристотелевская калокагатия.
В целях уточнения совокупного функционирования морали и
красоты в калокагатии Аристотель употребляет еще два
термина, тоже требующие пояснения, а именно "самоцель" и
"предел". Чтобы не ошибиться в понимании этих терминов,
необходимо иметь в виду, что Аристотель употребляет их для
морали и красоты, взятых не в отдельности, а в их единой и
неделимой совокупности. В самом деле, богатство, здоровье и
прочие материальные блага, данные как самоцель, вовсе не
составляют калокагатии, так как богатый, который пользуется
богатством ради самого богатства, может не только разрушать
само богатство, но и обладать разными пороками, которые
противоречат калокагатии. Следовательно, использование
материальных благ может считаться самоцелью только вместе с
осуществлением красоты, но никак не в отрыве от него. Точно
так же и понятие предела характерно, по Аристотелю, только
для внутренней объединенности морали и красоты. Красота
ставит определенные границы для пользования материальными
благами, так что за пределами этих границ использование
материальных благ становится и ненормальным и некрасивым,
то есть перестает быть калокагатией.
Наконец, необходимо иметь в виду общее динамическое
учение Аристотеля о добродетели и счастье. Дело в том, что
и добродетель, и счастье, и удовольствие обязательно
состоят у Аристотеля из действенных актов, требуют со
стороны человека постоянного действия. Поэтому отношение
красоты и морали в калокагатии Аристотель понимает как
действие "властвующего" начала и соответствующее действие
подвластного начала. Красота, по-видимому, и есть то, что
властвует в калокагатии, а использование материальных благ
то, что подвластно. По Аристотелю, это относится также и
к взаимоотношению души и тела и даже, больше того, к
взаимоотношению бога и мира. Нет необходимости доказывать,
что Аристотель отражает здесь действительность
рабовладельческого строя, он сам выдает себя, иллюстрируя
свои мысли взаимоотношением господина и раба. А то, что это
относится к цветущему периоду рабовладения, ясно из весьма
сдержанной трактовки материальных благ, далекой от
безудержной экспансии позднего рабовладения.
Теперь, после всех разъяснений, приведем (в нашем
переводе) и собственный текст Аристотеля:
"Итак, о каждой добродетели в отдельности сказано выше.
Но поскольку значение их мы рассмотрели по отдельности, то
надо специально высказаться и о той добродетели, которая из
них возникает, то есть о той, которую мы уже называли
калокагатией. Впрочем, ясно, что тому, кто хочет в
истинном смысле достигнуть этого наименования, необходимо
обладать [и] отдельными добродетелями. Ведь и в других
областях ни с чем не может быть иначе. Не бывает так, чтобы
кто-нибудь имел здоровье во всем теле и не имел его ни в
каком члене. Наоборот, необходимо, чтобы все, или большая
часть, или главнейшие [из членов] обладали одинаковым
состоянием со всем целым.
Итак, быть хорошим [просто] и быть "прекрасным и
хорошим" различается не только по названию, но и по
самим фактам. Именно, целями всего хорошего являются
такие цели, которые достойны выбора сами ради себя. К этому
же относится и прекрасное, что, существуя через себя, все
достойно похвалы. Это есть то, ради чего оказываются
достойными похвалы и [соответствующие] поступки и само это
прекрасное, как, например, справедливость, и сама она и
[соответствующие] поступки. Так, [достойны похвалы]
целомудренные, потому что достойно похвалы и целомудрие. Но
[голое] или в абстрактном смысле здоровье не достойно
похвалы, как и [соответствующее] действие. Не достойна
похвалы ни [голая] сила, ни действие, потому что не
[достойна этого] и сила. Это, правда, хорошее, но это не
есть то, что достойно похвалы. Но одинаковым образом это
по индукции ясно и на прочем.
В связи с этим хорошим является тот, у которого
хорошее является природно (physëi) хорошим. А
именно, вожделенные и кажущиеся самыми большими блага:
почет, богатство, добротность тела, счастье, могущество,
хотя и являются благами природными, но они могут быть
вредными для тех или других в связи с обладанием ими. Ведь
ни неразумный, ни несправедливый, ни невоздержанный не
смогут получать пользы от их употребления, так же как и
больной от употребления пищи, предназначенной для
здорового, как и немощный и калека от здорового режима,
предназначенного для человека, ни в чем не поврежденного.
Прекрасным же и хорошим [человек] является
оттого, что у него прекрасное из хорошего наличествует само
через себя, и оттого, что он оказывается способным
совершать прекрасное, и притом ради этого последнего.
Прекрасное же это и добродетели и дела, связанные с
добродетелью. Но это и некоторого рода государственное
устройство, вроде того, которое у лакедемонян или которое
могли бы иметь другие такие же [граждане]. Устройство это
такое же. Именно, бывают такие люди, которые полагают, что
хотя и надо обладать добродетелью, но [только] ради
природных благ. Поэтому они и являются "хорошими",
поскольку благами у них оказываются природные блага. Но
они ведь не обладают калокагатией, поскольку
прекрасное не налично у них само через себя и они не
выбирают [быть] "прекрасными и хорошими". И не только это.
Но прекрасным оказывается у них не то, что прекрасно по
природе, но то, что хорошо по природе. Ведь прекрасно оно
тогда, когда они действуют ради него самого. И [эти люди]
выбирают прекрасное потому, что у "прекрасного и хорошего"
природные блага оказываются прекрасными. Действительно
прекрасно то, что справедливо. [Расценивается] же оно не с
точки зрения достоинства. А он [прекрасный и хороший]
достоин этого. А это ему прилично богатство, благородное
происхождение, могущество. Поэтому для "прекрасного и
хорошего" оно и полезно и прекрасно. Но многим это
противоречит. Ведь и хорошим является у них не просто
хорошее, но хорошее у хорошего. А у хорошего и
прекрасное, поскольку они совершают много прекрасных
поступков ради этих последних. А тот, кто полагает, что
добродетель нужно иметь ради внешних благ, тот совершает
прекрасное [только] случайно. Значит, калокагатия есть
совершенная добродетель.
Сказано и об удовольствии, что оно такое и в
каком смысле является благом; [и сказано], что одно просто
приятно и прекрасно, другое же просто хорошее, приятное.
Но удовольствия не бывает кроме как в действии. Поэтому
истинно счастливый и жить будет приятнее всего. И люди
недаром так полагают. Однако и для врача поскольку
существует некоторый предел, с точки зрения которого он
судит о том, здорово ли тело или нет, и имея в виду который
необходимо действовать до определенной степени над каждым
телом, чтобы оно было здорово, [так что] если меньше или
больше [действовать], то [тело уже] не здорово, а также и
для ревнителя поступков и выбора благ природных, но не
похвальных, необходимо существовать некоторому
пределу и для его [внутреннего] состояния, и для
выбора, как относительно избежания излишка и недостатка как
в имуществе, так и в успехе. В предыдущем уже было
высказано то, чего требует здесь смысл вопроса. Однако это
равносильно было бы тому, что в вопросе о пище кто-нибудь
сказал бы, что [он поступает] как требует медицина и ее
смысл. Хотя это и было бы правильно, но это не ясно.
Очевидно, необходимо, как и в остальном, вести жизнь в
соответствии с властвующим и в соответствии с состоянием
властвующего [в отношении его деятельности], как, например,
рабу в соответствии с господином и каждому в
соответствии с надежной властью. Но поскольку и человек по
природе своей состоит из властвующего и подвластного, то и
каждое [из этих начал], очевидно, должно быть в
соответствии со стоящей над ним властью. Власть же эта
двоякая. Одна это власть врача; и другая это здоровье.
Первая существует ради этой последней. Так же обстоит дело
и в области созерцания. Ведь бог властвует не в смысле
издавания приказания, но он то, ради чего приказывает
разумность. Это "ради чего" двоякое. Во [всем] прочем оно
определенно, в то время как сам он, во всяком случае, ни в
чем не нуждается.
Итак, тот выбор и то приобретение природных благ тела,
или имущества, или друзей, или прочих благ, которые могут
заставить больше всего созерцать бога, это [выбор и
приобретение] наилучшего, и этот предел прекраснейший. А
тот, который ввиду ли нужды, ввиду ли излишка
препятствует чтить и созерцать бога, тот плох. Относится же
это к душе, и этот предел души наилучший меньше всего
ощущать остальную [неразумную] часть души, поскольку она такова.
Итак, пусть будет [это] сказано о том, каков предел
калокагатии и какова цель "просто благ"."
Эта концепция в целом не отличается от концепции
"Большой этики", поскольку там тоже говорилось о
необходимости для калокагатии ограничения безраздельного
произвола естественных благ. Но здесь Аристотель
пытается разграничить функции блага и красоты, в то
время как там такого разграничения не было. Объединяясь в
том, что они обе суть некая самоцель (почему прекрасное и
есть вид блага в широком смысле), эти сферы, однако,
различаются как нечто достойное выбора (и поэтому
относящееся главным образом к воле) и как нечто достойное
похвалы (и потому относящееся главным образом к
созерцанию). Калокагатия такая сфера, достойная
выбора, которая в то же время достойна и похвалы.
В изучаемой нами главе "Эвдемовой этики" есть и еще одна
мысль, которая до некоторой степени конкретизирует уже
известную нам теорию Аристотеля о "безвредности"
"похвальных благ" "просто". А именно, во вторую половину
главы Аристотель вводит понятие предела, который как
бы сдерживает собой произвол "естественных" благ. Каждое
"естественное" стремление имеет для себя свой же
собственный можно сказать, не менее естественный
предел. Если его перейти это равносильно
уничтожению блага или получению ущерба. Такой предел есть
во всем, во всех жизненных явлениях. Следовательно,
постоянство калокагатии, ее безболезненность и безвредность
нужно понимать не в смысле какой-то абстрактной
неподвижности и оцепенелости, какого-то идеально
непоколебимого и безжизненного бытия, а, наоборот, как
некую жизненность, стремление и борьбу. Вся стихия жизни
должна содержать в себе и выражать собой некий предел,
налагаемый этой стихией на себя самое, и именно для того,
чтобы никогда не переставать быть собой. Стихия жизненных
благ, выраженная и пребывающая так, чтобы эти блага никогда
не переставали быть самими собой (то есть были сами для
себя пределом), чтобы они никогда не вредили сами себе и
себя не уничтожали (то есть богатство богатства, слава
славы, могущество могущества), и есть аристотелевская
калокагатия.
В этом пункте заключена, пожалуй, наиболее оригинальная
и интересная особенность всей концепции калокагатии у
Аристотеля. Из нее следует, что человек пользуется,
например, богатством или могуществом не для чего иного, как
именно для них же самих, так что они для него являются в
полном смысле слова самоцелью, а не чем-нибудь прикладным,
служащим для каких-то иных, высших благ. Сами эти блага не
развивают в человеке никаких низких страстей или пороков,
но делают его свободным и независимым, делают его
господином богатства или могущества, а не их рабом.
Можно спорить по поводу терминологии Аристотеля, можно
считать, что для разъяснения и доказательства своей мысли
Аристотель употребил не очень удачный способ аргументации и
не очень удачный терминологический аппарат, однако сама
мысль, сама концепция калокагатии получилась у него весьма
оригинальной, интересной и убедительной.
А главное, здесь Аристотель реставрирует, может
быть, самое древнее представление греков о
калокагатии, а именно, представление периода высокой
классики, когда она была выражением общегреческого
стихийного и жизненного материализма. Это, как мы знаем,
был период восходящего рабовладения или период его
классического расцвета, период господства мелких свободных
собственников, объединенных в крепкий коллектив полиса,
сдерживающий их от всякой индивидуальной анархии. Тут
действительно все было, как говорит Аристотель, "просто".
Материальные блага, достигнутые демократией, еще не
переходили того "предела", который приводил бы их к
разрушению или вообще наносил бы им ущерб. Простота,
непосредственность и сдержанность социально-экономических
отношений той эпохи отражались и на ее эстетическом идеале,
делая его, с одной стороны, вполне материальным, а во
многих отношениях и прямо материалистическим, а с другой
находя в нем же самом сдерживающее, оформляющее и
организующее начало, которое не заимствовалось из
какой-нибудь надматериальной или сверхчувственной области.
Эта особенность вытекает из общественно-экономических
условий рабовладельческой формации периода классики
до ее эллинистически-римского разбухания. Это и есть
классическая, то есть досократовская, натурфилософия. Это
есть одновременно и классическая калокагатия, которую
Аристотель реставрирует в период гибели греческой классики
и накануне эллинистически-римской мировой экспансии. Тут
еще нет никакого идеализма или спиритуализма, появившегося
в самом конце периода классики. Высшее благо здесь все
еще богатство, здоровье, могущество, слава. Но высшее благо
в то же время трактуется и как самоцель и как нечто
безвредное, не допускающее никакого ущерба, как нечто
свободное и благородное, хотя и сдержанное, четко
оформленное и не уходящее в бесконечное разбухание и
диспропорцию.
д) Для полноты обзора приведем еще три текста
Аристотеля, имеющие, впрочем, третьестепенное значение.
В "Никомаховой этике" есть прекрасная глава о так
называемом megalopsychia, или "величии души".
Аристотель изображает эту добродетель яркими чертами и
между прочим говорит: "Величие души, можно сказать, есть
как бы некий космос добродетелей, потому что оно делает их
более значительными и само без них не возникает. Поэтому
быть великим душою поистине трудно. Этого нельзя без
калокагатии" (IV 7, 1124a 1 4). В том же сочинении
Аристотель доказывает, что добродетель не созерцается, но
действует и что "многие не способны обратиться к
калокагатии, поскольку они привыкли повиноваться не стыду,
но страху" (X 10, 1179b 10 11). Наконец, в "Политике"
Аристотель говорит о том, что калокагатия свойственна всем
людям, но только в разной степени и разных видах.
"...И если обоим этим существам (властвующему и
подвластному) должно быть свойственно совершенство
(calocagathia), то почему одно из них предназначено раз
навсегда властвовать, а другое быть в подчинении?..
Признавать совершенство за одним и отрицать его в другом
разве это не было бы удивительно? И если начальствующее
лицо не будет скромным и справедливым, как оно может
прекрасно властвовать?.." (I 5, 4 5, 1259b 34 1260a 1).
"...Народ, будучи волен раздавать почести кому он захочет,
не станет завидовать тем, которые их принимают. А более
видные граждане будут больше упражняться в калокагатии,
зная, что для них не может быть невыгодным пользоваться
известностью у известного рода граждан" (Rhet. ad Alex. 3,
1424a, 17). Там же: "Тому, кто хочет защищать при помощи
закона, необходимо указывать, что этот последний одинаков
для граждан и согласуется с прочими законами, что он
полезен для государства, в особенности в целях единомыслия,
а если нет, то в целях калокагатии граждан, или для общих
доходов, или для общей доброй славы государства, или для
государственной мощи, или для чего-нибудь другого подобного".
12. Калокагатия и классический идеал
Мы начали с утверждения, что калокагатия есть самое
яркое выражение классического идеала, и, приступая к ее
исследованию, натолкнулись на большое разнообразие и даже
противоречивость значений этого термина. Сделаем некоторые выводы.
а) Прежде всего, как следует относиться к
популярному представлению о калокагатии как гармонии души и
тела? Такое представление, очевидно, можно принять, но
само по себе оно носит чрезвычайно общий и расплывчатый
характер. Действительно, пока мы не определили, что такое
душа и что такое тело, думать о ясности и точности такого
представления почти не приходится. Поэтому судьба данного
понимания калокагатии будет всецело зависеть от того, что
мы найдем существенного в античных определениях души и
тела.
Так же не ясен и другой тоже обычный и популярный
способ выражения: калокагатия есть гармония внутреннего и
внешнего. Можно сказать, что эстетическое бытие (и
сознание) вообще всегда есть гармония внутреннего и
внешнего или, если угодно, "души" и "тела". Поэтому
указанное популярное представление об античной калокагатии
неизбежно оказывается бессодержательным, если
ограничиваться только им. Оно есть определение вообще всей
эстетической области, и в особенности прекрасного. В
прекрасном всегда внутренняя жизнь ощущается, видится,
слышится как внешняя, физическая, телесная, чувственная
материя, а все телесное и физическое дышит, волнуется и
трепещет внутренней, скрытой и, может быть, неохватной,
бесконечной жизнью. Тут нет еще никакой калокагатии. Это
просто отвлеченное представление о прекрасном вообще, о
всяком прекрасном.
б) Существенное в античной калокагатии начинается
с выяснения содержания "внутреннего", то есть
"души". Это содержание тоже телесно. Оно не имеет
никаких других заданий и целей, кроме оформления и
осмысления самого телесного как телесного.
Самообоснование живой телесной стихии, живое тело
как самоцель вот что является самым существенным,
исходным пунктом для понимания античной калокагатии. Таким
образом, гармония тела и души существует здесь с
приматом тела, то есть является, в сущности, гармонией
тела с самим же собою, или обоснованностью живого тела
самим собою. Конечно, то, что обосновывает, есть нечто
высшее, нечто идеальное и смысловое, поскольку
обосновываемая вещественность, взятая в чистом виде,
является чистой и бесформенной текучестью, то есть
безразличным хаосом. Тут происходит нечто весьма
интересное. Оказывается, телесно-жизненная стихия сразу
есть и нечто идеальное и нечто реальное. Это означает, что
"внутреннее", "душа", отличается от "внешнего", "тела",
только формально, только логически, "категориально",
(как вообще всякий смысл и идея вещи отличаются от самой
жизни), но не по своему бытийному, реальному
содержанию; и, следовательно, красота этой гармонии
души и тела заключается просто в красоте самого тела как
такового.
Здесь мы соприкасаемся с подлинной сущностью греческого
искусства периода классики, и прежде всего с прославленной
греческой классической скульптурой. Если тело не выражает
собой никакого стоящего над ним и от него независимого
духа, а выражает только само себя, то очевидно, что перед
нами искусство, выражающее чисто телесные, чисто физические
процессы. А так как всякое тело есть, прежде всего,
физическая вещь, обладающая определенным весом, массой,
плотностью, размерами, то, значит, мы имеем дело с
искусством, построенным на равновесии и гармонизации
моментов тяжести и пространственной размерности физического
тела. И так как речь идет здесь все же о гармонии некой
"души" (в античном материалистическом смысле) и "тела", или
о гармонии внутреннего и внешнего, то, следовательно, перед
нами не просто игра пространственно-весовых моментов, а
трактовка человека в свете этой пространственной
весовой игры. А это и есть строгая, пока еще не
психологическая скульптура периода греческой классики.
Таким образом, классическая калокагатия является основой
греческой классической скульптуры.
Этот взгляд легко извратить, если вкладывать иное
понимание в употребляемые античными писателями термины.
Например, трактовка калокагатии не означает, что с античной
точки зрения тут не участвует "душа". Напротив, "душа" не
только участвует, но она в качестве принципа жизни и
"начала движения" как раз и делает тело живым и прекрасным
телом. Но тут нет души в средневековом, христианском,
иудейском или вообще в монотеистическом смысле, то есть нет
души как основы самостоятельной и неповторимой личности.
Далее, формулированный выше взгляд на калокагатию отнюдь
не означает, что она заключается в чисто биологической
красоте человеческого тела. Биологическая красота является
здесь по своему содержанию, но само это содержание
не грубо-телесно и физично, оно в то же время идеально,
чисто, оно есть самоцель, оно "просто", оно "предел" и
т.д. Не забудем, что в той гармонии, единстве, в котором
выступают сферы "внутреннего" и "внешнего" в прекрасном,
уже нет ничего ни внутреннего, ни внешнего. И потому
калокагатия не есть уже только "внутреннее" и только
"внешнее", она и не только "духовна" и не только
"материальна", хотя по содержанию своему она и есть нечто
вполне телесно-жизненное. В живом теле принцип жизни (а это
античные мыслители и называли душой) и материальная сфера
его осуществления (то есть тело) суть только абстракции,
может быть, полезные в целях той или иной научной или
философской теории, но отнюдь не существующие раздельно.
Это вполне соответствует общечеловеческому опыту: находясь
в том или ином реально-жизненном общении с данным
человеком, мы имеем дело отнюдь не с одной только его душой
или одним его телом; мы имеем дело с самим человеком, в
сравнении с которым его "внутреннее" и его "внешнее"
являются только абстракциями, и часто даже весьма
малопродуктивными.
в) Такое значение термина "калокагатия" является
наиболее общим и наиболее коренным. Что оно соприкасается с
античным классическим скульптурным идеалом вообще,
едва ли может подлежать сомнению. Ведь классический идеал
тоже телесен, но не элементарно телесен, а как-то
благородно, идеально телесен; и он духовен, но в то же
время совершенно лишен всякого аскетизма, всякого
принижения плоти, наоборот, единственная цель этого духа
увековечить живое и красивое тело. Калокагатия и есть
этот античный классический скульптурный идеал. Но она
есть нечто гораздо более конкретное, чем наши отвлеченные
рассуждения о классическом идеале. Учение о классическом
идеале конструируется нами по необходимости из ряда
отвлеченных понятий и отдельных исторических
искусствоведческих наблюдений. В самой античной литературе
не существует такого понятия "классический идеал". Но в
античной литературе существует понятие "калокагатия", и
оно-то и является подлинной характеристикой классического
идеала.
В калокагатии конкретизируются и получают общую и единую
физиономию все те отвлеченные и разнородные категории,
которые обычно употребляются для характеристики
классического идеала.
Обычно при характеристике греческой классической
скульптуры говорится отдельно о "красоте" и "благородстве"
изображаемого ею человеческого тела, об ее "величии" и в то
же время "простоте", о "свободе" и "демократической"
гражданственности изображаемого здесь человека, о его
"героизме", о "здоровом теле в здоровой душе", о выражении
интересов и художественных идеалов восходящих классических
полисов, о "знании" и "мудрости" героев, о "размерности" и
"соразмерности" произведения классического искусства, об их
"гармоничности" и "самоцели", об их "объективной
закономерности", об их внутренней и внешней
"безболезненности". Все эти отдельные выражения есть только
результат научной абстракции, желающей перечислить все
составные элементы греческого классического скульптурного
идеала (перечислить которые невозможно, а если бы и было
возможно, то ведь уже самая элементарная диалектика учит
нас, что простое перечисление отдельных частей сложного
предмета не характеризует данного предмета в целом).
"Калокагатия" же как раз и есть такой термин, который
охватывает собой все только что перечисленные нами
отдельные выражения и, как мы видели, есть вполне
адекватное выражение для изучаемого нами классического
скульптурного идеала.
Наконец, классический идеал, избегающий сугубо
индивидуальной психологии и субъективных переживаний,
содержит в себе главным образом индивидуально-общие и
всеобщие черты бытия, и это приводит к тому, что он по
необходимости является до некоторой степени абстрактным и
даже в известной мере "холодным". Калокагатия есть общее
идеально-нормальное состояние тела, в котором личность
человека только и проявлена в меру соответствия этому
идеально-нормальному физически-жизненному состоянию тела.
Таким образом, вполне точно и без всяких натяжек следует
говорить о том, что античный классический идеал выражен
именно в калокагатии.
Классический калокагатийный идеал не есть идеал только
абстрактно взятого индивидуального человеческого тела. Мы
уже видели выше, что он обозначает не просто тело, но живую
личность, которая совершенно немыслима в отрыве от
тогдашнего рабовладельческого коллектива. Это видно и по
самой скульптуре, которая несет в себе такое обобщение, что
не может быть и речи о какой-нибудь самостоятельности и
изоляции телесных индивидуумов. Поэтому классическая
калокагатия является также идеалом полисного
гражданства, и это составляет очень важную сторону в
пластическом искусстве Греции классического периода.
|